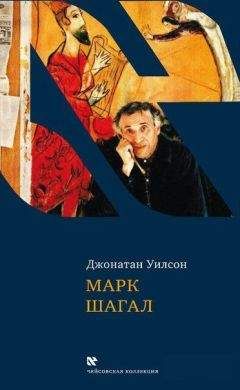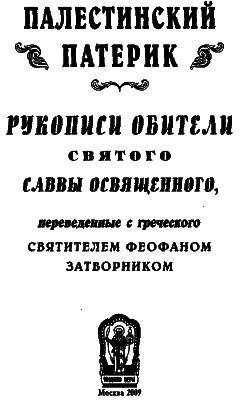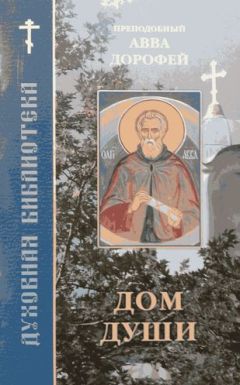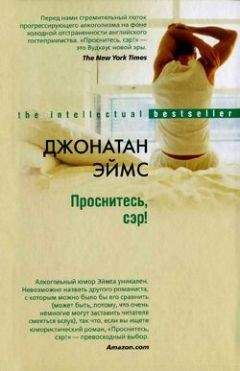Палестинский роман - Уилсон Джонатан
Преодолев два пролета широких щербатых ступенек, он постучал в дверь аль-Саидовой семьи. Ему открыл щуплый мальчик лет девяти-десяти, глаза у него были мутными от трахомы, веки в мелких шрамах. Блумберг заглянул в помещение. Хотел было спросить про мать Сауда, но мальчик схватил его за руку:
— Входите. Да-да, входите.
Он тянул Блумберга внутрь, как базарный зазывала, завлекающий покупателя в закуток — показать лучший товар.
Посреди комнаты стоял круглый деревянный стол на деревянной тумбе, подпертый для верности двумя каменными столбиками. У стены — единственный стул с низкой спинкой. На цементном полу — пять-шесть соломенных циновок.
Мальчик жестом указал Блумбергу на стул, а сам исчез в проходной комнате. Сквозь неподвижные шторы в комнату сочился солнечный свет. Напротив Блумберга громоздилась дюжина тонких клетчатых матрасов, подпоркой для них служило нечто, напоминающее остов старой ореховой книжной полки. Пол был уставлен бурдюками и кувшинами, сосудами для вина, воды или молока. На столе красовалась маленькая медная ваза с плодами кактуса.
Через несколько минут мальчик вернулся и поставил на пол медный кофейник. Вскоре вошла женщина с тарелочкой инжира. Он была в черном муслиновом платье с длинными рукавами, но с непокрытой головой. Длинные черные волосы, расчесанные на прямой пробор, были заплетены в косы. Так это мать Сауда? Блумберг думал, что она старше.
— Марк, — сказал он, тыча себя в грудь и чувствуя себя при этом идиотски. — Марк Блумберг.
— Она Лейла, — ответил мальчик вместо матери. — А я Ахмед.
Блумберг постарался объяснить, кто он такой и что случилось с Саудом. Женщина и мальчик немного понимали по-английски, и, видимо, Блумбергу удалось им растолковать, что Сауд работал у него, что он жив и здоров и направляется в Каир. На глаза матери то и дело наворачивались слезы. Блумбергу трудно было без арабского. Как глупо, что он пришел один. Надо было прихватить переводчика. Но на кого он мог положиться?
Он пил сладкий кофе, смущенный, что пришел с пустыми руками. Неужели он может одарить этих людей только безрадостными новостями?
— Спасибо, — улыбнулся он Лейле.
На полу лежала блуза с незаконченной вышивкой, рядом — небольшая стопка белья, дожидающегося починки. Блумберг вспомнил, как его мать, подслеповато щурясь, штопала вещи в их гостиной на Крисчен-стрит, пальцы ее были в мозолях от шитья. Он почти не помнил мать молодой, в возрасте этой женщины. Для Блумберга она почти всегда была седой, но при этом крепкой и бодрой — этакий домашний Атлас, держащий на плечах свой мирок. Ему захотелось сказать матери Сауда, что и в его семье привыкли иметь дело с пуговицами, молниями и катушками, но сдержал этот порыв.
Он пробыл, может, около часа, повторяя одни и те же простые фразы и отчаянно жестикулируя, чтобы убедить Лейлу: с ее сыном все в порядке. Он знал от Сауда, что к ним в дом наверняка наведывалась полиция, как знал и то, что Росс по какой-то причине решил отпустить мальчика.
В комнате царила приятная прохлада. Блумберг замолчал. Лейла протянула ему блюдо с инжиром, он взял один плод. Но вместо того чтобы поставить вазу обратно на стол, она опустила ее на пол, затем встала на колени и принялась вращать столешницу. Та чуть сдвинулась — деревянная тумба внизу оказалась полой. Она что-то сказала Ахмаду, мальчик сунул внутрь руку и вытащил одну за другой четыре потрепанные книги и одну с виду новенькую. Ахмад сложил книги в стопку и протянул их Блумбергу.
— Пожалуйста, — сказала Лейла. — Для Сауда.
Потом коротко поговорила с Ахмадом по-арабски.
— Она хочет, чтобы вы их передали Сауду, — перевел он.
— Но я не… — начал было Блумберг, но оборвал себя на полуслове. — Хорошо, я все сделаю.
Он взглянул на корешки: учебник геометрии, английская грамматика для начинающих, поэтическая антология и две тонкие книжки с названиями «Weespraak» и «Beemdgras». Блумберг открыл одну из голландских книг. И прочел на форзаце высокопарную надпись Де Гроота — если не явное признание в любви, то нечто близкое к тому: дружеские, ободряющие, теплые слова.
Блумберг бегло полистал антологию английской поэзии. На некоторых, зачитанных, страницах были загнуты уголки: «Я встретил путника; он шел из стран далеких» [68], «Сварливой старости и юности прелестной вдвоем не быть: стихии несовместны» [69]. Блумберг отложил английскую, взял другую книгу: голландские стихотворения. Она выглядела нечитаной. Когда он открыл томик, из него выскользнул сложенный лист бумаги. Блумберг его расправил — это была сделанная под копирку копия письма в Министерство по делам колоний в Лондоне за подписью Де Гроота. Блумберг пробежал письмо глазами, потом прочитал его более внимательно, а затем опять сложил и сунул обратно в книгу.
Лейла и Ахмад наблюдали за ним — со страхом или с надеждой, Блумберг точно не понял, поскольку оба не произнесли ни слова.
— Мне пора. — Он похлопал по обложке книги: — Не волнуйтесь. Это ерунда.
Мать Сауда встала. Блумберг протянул ей руку на прощание, но она скромно потупила глаза. Тогда он, в порыве чувств, быстро шагнул к мальчику и обнял его.
Блумберг спустился по каменной лестнице, свернул в сук, все еще безлюдный в эту пору. И быстро зашагал к Яффским воротам, крепко прижимая книги к груди. Информация, которой владел Де Гроот, стоила ему жизни. А теперь она известна и Блумбергу.
32
— Залезайте скорей! — бодро крикнул Липман. — А то опоздаем на первый забег. Он самый важный.
У него был тот же тембр голоса, что и у Марка, даже интонации похожие. Вероятно, они родом из одной и той же части Лондона. С годами Джойс научилась разбираться в английских акцентах, служивших отличительным признаком того или иного класса, района, области и, как уверял Марк, веры.
Она подошла к калитке — возле машины ее поджидал, ухмыляясь, Джонни Липман, послушный болванчик. С преувеличенно низким поклоном открыл перед Джойс дверцу:
— Прошу, миледи.
Джойс села в машину.
Липман был ростом под метр девяносто, но он не выглядел высоким: при длинном торсе у него были на удивление короткие ноги. Каштановые волосы на крупной голове уже начали редеть (это обстоятельство почему-то казалось ему забавным, в прошлый вечер он даже в шутку предложил Джойс потрогать его залысину, было бы чем гордиться!), но взгляд серых глаз был жестким и не внушал доверия. Хотя это Липману стоило бы задуматься, можно ли ей доверять, а не наоборот. Он также продемонстрировал ей шрам на носу, как будто его лицо и голова были увлекательными старыми картами.
— Когда мне было пять лет, налетел на дверь теплицы. Хорошо хоть не сортира.
Джойс надеялась, что следующее после «свидания» с Липманом утро принесет свежесть и прохладу. Что все посторонние запахи за ночь смоет проливным дождем, но не тут-то было: по-прежнему стояла тягостная августовская жара, нещадно палило солнце, ее тело было скользким от пота, а дом, куда она недавно вернулась, пропитали странные запахи. Сильнее всего был запах козьего помета, к которому добавлялась вонь сточной канавы, что проходила в ста метрах от дома. Погода явно не собиралась идти у нее на поводу, так что она была просто обязана надеть чистое белое платье.
В конце вечера Липман попытался — не слишком решительно, но все же сказав: «Я конечно, знаю, вы не такая» — затащить ее в постель, и Фрумкин был бы несомненно доволен, если бы так и случилось, но Джойс пробормотала, мол, «не те дни», и он быстро отступился, назначив свидание на следующее утро.
Подцепить его оказалось совсем не трудно. Фрумкин ей сказал, что Липман по пятницам обычно завтракает в «Интернешнл», и именно там Джойс «на него наткнулась». Они провели день, гуляя по Старому городу (Джойс все озиралась в смутной надежде увидеть Роберта Кирша), и именно здесь, уже ближе к закату, когда к Стене Плача на вечернюю молитву потянулись евреи в черных одеяниях и собольих шапках, Липмана посетила блестящая мысль поехать на другой день в Лидду на скачки. Если его и удивила поспешность, с которой она приняла предложение от полузнакомого мужчины, то виду он не подал. Наверное, решил, что неотразим. Вот и отлично.