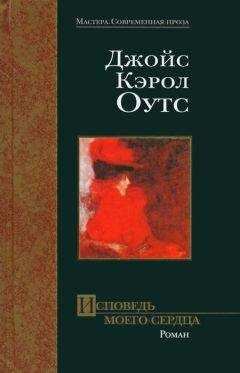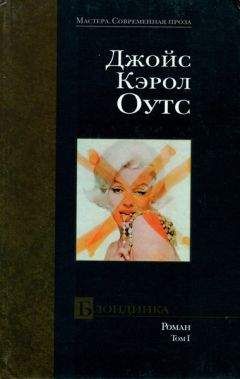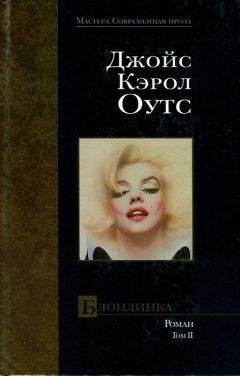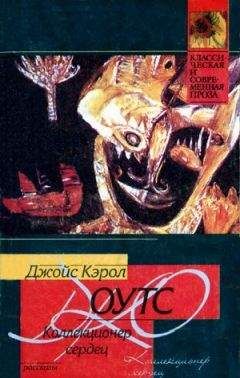Сага о Бельфлёрах - Оутс Джойс Кэрол
(Довольно странно, что Делла и Лея были такими частыми гостями на праздниках Бельфлёров. Они постоянно были «где-то здесь», а у Леи даже хватило храбрости раз или два принести с собой своего мохнатого питомца. Хотя Делла и питала отвращение к состоятельным родственникам, она всегда принимала их приглашения на свадьбы, крестины и праздники, чувствуя, что на самом деле она для них — гость нежеланный и что они рассчитывают на ее отказ, — так зачем же доставлять им это удовольствие? «Ради меня, Лея, веди себя как юная леди», — увещевала она дочь; но, когда Лея вела себя неподобающе, мать никогда не одергивала ее. «В конце концов, в твоих жилах течет их кровь», — безучастно бросала она.)
Лее было шестнадцать, когда, нырнув с гранитного утеса в Лейк-Нуар и доплыв под холодным сентябрьским дождем до середины подернутого рябью озера, она заставила своего кузена Гидеона влюбиться в нее раз и навсегда. Он, может, и догадывался, что влюбленность нарастает в нем год за годом, но это волнующее зрелище — крепкая, рослая, загорелая девушка в цельном зеленом купальнике, без раздумий прыгающая с высоты пятнадцати — двадцати футов, чудесная слаженность всех ее мышц — стало лишь последней каплей. Лея плавала не хуже самого Гидеона, ее густые темно-рыжие волосы подобно шлему облепили голову, лицо побледнело от напряжения. Его тянуло — хотя сделать этого он не мог — броситься в воду и поплыть вместе с ней. Он хотел нагнать ее, и опередить, и превратить всё в детскую шутку. Но он не шелохнулся — просто стоял, глядя на ее тело в воде, блестящее, сильное и ловкое, словно угорь, а любовь и страсть так безнадежно переплелись у него в душе, что Гидеон в буквальном смысле утратил способность дышать.
(Намного позже, когда Ноэль заперся в комнате вместе с сыном, умоляя, увещевая и браня его — он даже попытался поднять на сына руку, — на что Гидеон отвечал с какой-то угрюмой беспомощностью: «Да я и не хочу так желать ее. Мало того что она моя кузина, так еще и дочь этой старой стервы! Папа, ты что думаешь, мне действительно этого хочется?»)
В юности у Леи было немало поклонников, некоторые из них — Фрэнсис Рено, Харрисон Макниван — были лет на десять старше, но и ровесники Гидеона тоже не обходили ее вниманием. Однако все они ретировались — их отпугивал паук Любовь. Ходили слухи — надо сказать, небезосновательные — про сознательную жестокость девушки, которая пускала своего паука ползать по плечам гостей или даже кусать их. (Эта чертовка Пим без уважения отнеслась даже к Харрисону, ни руку его, искалеченную на войне, не пожалела, ни о землях, что он получит в наследство, не подумала!) Когда Лее было лет семнадцать или восемнадцать, по округе о ней поползла дурная молва: пусть она не скрывала своего презрения к мужчинам, но, оставаясь с кем-нибудь из них наедине, вела себя капризно, даже безжалостно. Возможно, она лишь старалась скрыть робость, когда давала поклонникам неисполнимые поручения (например, Лайлу Бернсайду она велела принести ее шелковый шарф, улетевший вниз с крутого обрыва возле Военной дороги) и испытывала их терпение злобными выходками (однажды летом она согласилась встретиться с Николасом Фёром на холме под названием Сахарная Голова, но вместо себя отправила к нему толстую, слегка слабоумную девушку-полукровку) и внезапными необъяснимыми вспышками ярости (как-то раз на поминках — лучше места она не нашла! — Лея повернулась к наблюдавшему за ней с широкой улыбкой Юэну Бельфлёру и осыпала его обвинениями: он, мол, подлец, игрок и транжира, изменяет своей невесте (которую Лея в те времена еще даже не видела и знала лишь, что Юэн собирается жениться на девушке из семьи Дерби с весьма скромным состоянием) и наплодил незаконнорожденных детей. Эти нападки поразили Юэна: в них не было ничего, что нуждалось в немедленном опровержении, но Лея набросилась на него совершенно беспричинно. Неужели его искренний, доброжелательный интерес ничуть не польстил кузине?).
«Это Делла — постаралась говорили Юэну. Она настраивает дочь против всех мужчин на свете, но в первую очередь — против мужчин рода Бельфлёров».
Самый отвратительный — а может, самый смешной? — случай был связан с юношей по имени Болдуин Мид. Говорили, что он состоит в отдаленном родстве с Барреллами. Когда-то в Долине их обитало огромное количество, но это было до того, как знаменитая кровная вражда с Бельфлёрами привела в 1820-х к гибели нескольких представителей обеих семей. Возможно, именно это родство Лея считала привлекательной чертой Болдуина — ведь что может сильнее вывести ее родню из себя, чем союз с врагом? Пускай вражда и давно угасла, и теперь воспоминания о ней вызывали у всех лишь неловкость.
(Впрочем, это было не совсем так: в детстве Юэн, Гидеон и Рауль поклялись при удобном случае отомстить обидчикам, потому что, безусловно отвергая обвинение в том, будто в роковую ночь в Иннисфейле Жан-Пьер II убил в придачу к девяти другим жертвам еще и двоих Барреллов, они насчитали шестерых убитых Бельфлёров против всего лишь троих или четверых Барреллов, и это казалось мальчикам убийственно несправедливым.)
Если Болдуин Мид и состоял в родстве с Барреллами, то этого факта не подчеркивал, да и внешне ничуть не напоминал их: Барреллы были чернявыми, коренастыми и довольно низкорослыми, с волосатыми телами и почти скрывавшими лица бородами. Не стоит упоминать, что все они, заклятые враги Бельфлёров, были необразованными, неотесанными и косноязычными грубиянами. («Да ты, похоже, не так давно в человека превратился», — по преданию, воскликнул искренне изумленный Харлан Бельфлёр, вскинув мексиканское короткоствольное ружье, чтобы прострелить одному из них голову. Свидетелей восхитила грация, с которой Харлан, помедлив, все-таки выстрелил, словно сама мысль о том, что человек, стоявший перед ним и дрожавщий от страха, — не вполне человек, имеет глубокий смысл, и ему, Харлану, следует над этим поразмыслить, но не прямо сейчас.) Болдуин Мид же был высок, худощав, чисто выбрит и даже отличался слегка утомительной разговорчивостью. Манеры его оставляли желать лучшего, все-таки он был местный, однако назвать его неотесанным было нельзя, и в присутствии женщин из общества он не допускал ни сквернословия, ни вульгарности. Как именно он повел себя вечером Четвертого июля, что именно сказал Лее, каковы были его намерения и что он, собственно, совершил, никто не знал: сама девушка хранила молчание, а обсуждать эту тему с ее матерью едва ли кто-то осмелился.
В тот вечер Лея и ее двадцатишестилетний поклонник Болдуин Мид возвращались по Бельфлёр-роуд домой в двуколке, запряженной чалым мерином, с концерта и фейерверков в Нотога-Парке. Вероятно, они повздорили где-то между поворотом на Военную дорогу и деревней Бельфлёр, потому что следующим утром молодого человека обнаружили всего в нескольких сотнях ярдов от старых кузниц, когда-то принадлежавших Фёрам, у самой вершины очень длинного и крутого холма. Не мертвым, но едва живым. Он бредил и в исступлении звал мать. Его правая рука и лицо справа непомерно, до смешного распухли. Лея отогнала двуколку обратно в Бушкилз-Ферри и со всей заботой (потому что по-прежнему тепло относилась к лошадям, хотя уже потеряла былой интерес к ним) распрягла мерина, накормила его, окатила водой и оставила в старом хлеву Пимов. Она не стала скрывать, что двуколка стоит на земле ее матери — Лея оставила ее у всех на виду, на подъездной дорожке. Но девушка так и не объяснила, что произошло; она лишь пожимала плечами и со смехом говорила, что люди «делают из мухи слона», и, если кому-то так хочется все выяснить, почему бы им не спросить у этого недоумка Мида? Мужчины, доставившие его в деревню, и доктор Дженсен, лечивший его, утверждали, что бедолагу трижды укусил щитомордник, и большая удача, что его вовремя обнаружили, потому что к полудню он наверняка умер бы. «Щитомордник! — знающие люди задумчиво кривили губы и лукаво улыбались. — Щитомордник! Вот уж вряд ли».
Когда Гидеон Бельфлёр впервые нанес визит Лее в качестве ухажера, а не просто знакомого, пусть даже и кузена, первым его чувством было унижение — и злость: Лея, в открытом сарафане в горошек, с волнистыми медно-рыжими волосами, подчеркивающими не только саму ее красоту, но и высокомерную уверенность в ней, приняла кузена в темноватой и пыльной гостиной в их старом доме, а на плече у девушки — на голом плече! — сидел гигантский черный паук.