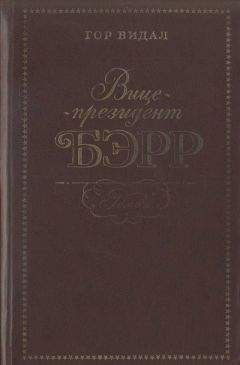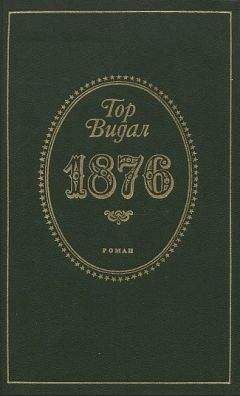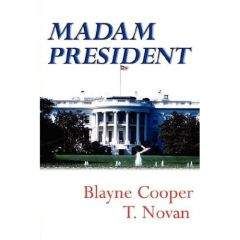Генри Хаггард - Клеопатра
На шестой день мы подошли к Абуфису, и я покинул судно, чему матросы были очень рады. С бьющимся сердцем шел я через зеленеющие поля, встречая незнакомые лица. Кто мог бы узнать меня в одежде рыбака, хромого, с искалеченной ногой? Наконец солнце зашло, я подошел к большому портику храма и сел здесь, не зная, куда мне идти и что делать. Подобно быку, отбившемуся от стада, я прибрел издалека на поля моей родины. Но для чего?.. Если отец мой, Аменемхат, еще жив, он, наверное, отвернется от меня. Я не смел идти к нем) и сидел среди разрушенных стропил, равнодушно смотря на ворота и ожидая, не появятся ли откуда-нибудь знакомое лицо. Но везде было тихо, никто не выходил, хотя ворота были широко открыты. Я увидел двор и траву, выросшую между камнями там, где в течение многих столетий она вытаптывалась ногами богомольцев. Что это значило? Разве храмы покинуты? Могло ли прекратиться здесь поклонение вечным богам, изо дня в день установленное в священном месте? Не умер ли мой отец? Это очень возможно. Зачем же тишина? Где жрецы? Где молящиеся?
Наконец у меня не стало сил выносить этой неизвестности. Как только солнце село, я прокрался, как затравленный шакал, в раскрытые ворота и вошел в первую залу колонн.
Здесь я остановился и оглянулся кругом — никого, ни звука, мрак и тишина в священном месте. С бьющимся сердцем я прошел во вторую большую залу тридцати шести колонн, где был коронован фараоном Египта! Но и здесь ни звука, ни движения! Пугаясь своих собственных шагов, эхо которых так ужасно звучало в тишине покинутых святынь, я прошел проход с именами фараонов вплоть до комнаты моего отца. Завеса висела на двери, но что было там, внутри комнаты? Пустота? Я поднял завесу и бесшумно вошел. В резном кресле у стола, на котором лежала его длинная белая борода, сидел мой отец Аменемхат в жреческом одеянии. Сначала я подумал, что он умер, так неподвижно он сидел, но вот он повернул голову — и я увидел, что глаза его были белы и слепы. Он ослеп, и его лицо походило на лицо умершего человека, высохшее от старости и горя.
Я стоял и чувствовал, что слепые очи блуждают по моему лицу, но не мог, не смел заговорить, мне хотелось уйти и скрыться, но только я повернулся и ухватился за завесу, как мой отец заговорил тихим, глубоким голосом:
— Пойди сюда, ты, который был моим сыном и стал изменником! Пойди сюда, Гармахис, на которого Кеми возлагала все свои надежды! Не напрасно привлек я тебя издалека! Не напрасно поддерживал я остатки своей жизни, пока не услышал твоих шагов, крадущихся по пустынным святыням, подобно шагам вора.
— Отец мой! — пробормотал я, удивленный. — Ты слеп! Как же ты узнал меня?
— Как я узнал тебя? И это спрашиваешь ты, посвященный в нашу науку? Довольно, я узнал тебя и привлек сюда. Но лучше бы мне не узнавать тебя, Гармахис! От чего не уничтожил меня Невидимый, прежде чем я извлек тебя из утробы Нут, чтобы быть моим позором и проклятием и последней скорбью Кеми!
— О, не говори так! — простонал я. — Мое бремя и так не под силу мне! Разве сам я не был обманут и вы дан? Окажи сострадание, отец!
— Сострадание? К тебе? Пожалеть того, кто не вы казал сам жалости! Пожалел ли ты, предавая благородного Сепа в руки мучителей?
— О, не говори так, не говори! — закричал я.
— Да, предатель, это верно! Благородный муж умер, до последнего дыхания защищая тебя, его убийцу, заверяя, что ты честен и невиновен! Иметь сострадание к тебе, который предал весь цвет Кеми ценой объятий рас путной женщины! Пожалеют ли тебя, Гармахис, те благородные люди, что работают теперь в мрачных рудниках? Иметь сострадание к тебе, кто был причиной опустошения священного храма в Абуфисе, захвата его земель, смерти его жрецов! Я, один я, старый, обессиленный, остался здесь, чтобы рассказать тебе о разрушении, — тебе, который был причиной всех несчастий! Ты разграбил сокровища Гер и отдал их распутнице, ты клятвопреступник, продавший свою страну, свое царственное право рождения, своих богов! Вот мое сострадание! Будь проклят, плод чресл моих! Пусть вечный стыд будет твоим уделом на земле, пусть смерть твоя будет страшной агонией, пусть ад примет тебя после смерти! Где ты?
Я ослеп, выплакав свои глаза, когда узнал все, хотя, конечно, они пытались скрыть это от меня! Дай мне найти тебя, чтобы я мог плюнуть тебе в лицо, вероотступник, отверженный, изверг! — С этими словами старик встал с своего места и, шатаясь, как воплощение живого гнева, направился ко мне. Но тут внезапно его застала смерть.
С криком упал он на пол, и струя крови хлынула из его рта. Я подбежал к нему и приподнял его.
Умирая, он бормотал:
— Он был моим сыном, прекрасный мальчик с блестящими глазами, полный надежды, как весна, а теперь, теперь… О, лучше бы он умер!
Аменемхат умолк, и дыхание захрипело у него в горле.
— Гармахис, — прошептал он, — ты здесь?
— Да, отец!
— Гармахис, очистись, очистись! Мщение богов может остановиться, забвение и прощение можно приобрести раскаянием! Там… золото! Я спрятал его… Атуа… она покажет тебе… Ах, какая мука! Прощай!
Он слабо забился в моих руках и умер. Так в последний раз встретились мы на земле с моим отцом Аменемхатом и расстались навсегда.
II
Последнее горе Гармахиса. — Он вызывает священную Изиду страшным словом. — Обещание Изиды. — Приход Атуи и ее слова
Я сидел на полу, неподвижно уставясь на мертвое тело отца, который жил, чтобы проклясть меня, уже проклятого и отверженного, пока темнота не спустилась вокруг нас и я очутился в мраке и молчании, наедине с мертвецом. О, какие это были ужасные часы! Воображение не может представить этого ужаса, никакие слова не опишут его! Еще раз в моем отчаянии я подумал о смерти. Кинжал мой был у пояса, я мог перерезать себе горло и освободиться.
Освободиться? Зачем? Чтобы предстать перед мщением богов и вынести их мщение?! О нет! Я не смел умереть! Лучше жить на земле и терпеть все муки, чем лицезреть все невообразимые ужасы Аменти, ожидавшие падшего человека. Я упал на землю и заплакал страшными слезами агонии — оплакивал невозвратное прошлое, плакал до тех пор, пока не иссякли мои слезы. Но из темноты, окружившей меня, не было ответа, только эхо вторило моим рыданиям! Ни одного луча надежды! Моя душа блуждала во мраке более непроницаемом, чем тот, который окружал меня; я был отвергнут богами и покинут людьми. Ужас напал на меня в этом уединенном месте перед величием смерти. Я встал и хотел бежать. Но куда мне бежать в этом мраке? Как найти дорогу в этих переходах, среди бесчисленных колонн? И куда бежать мне, не имеющему убежища на земле?
Я снова распростерся на полу, страх все разрастался во мне, холодный пот выступил на моем лбу — и дух мой ослабел во мне.
В тяжелом отчаянии я начал молиться Изиде, к которой давно уже не смел обращаться.
— О Изида! Священная матерь! — вскричал я. — Отврати твой гнев и в твоем бесконечном сострадании ты, о всемилостивая, услышь голос скорби того, кто был твоим слугой и сыном, кто, по греховности своей, пал и потерял видение любви твоей! О восседающая на престоле славы, ты пребываешь во всем, знаешь всё, все печали и горести земные, положи же твое милосердие на весы моих злодеяний и уравняй их! Взгляни, милосердная, на мою скорбь и умерь ее! Измерь глубину моего раскаяния и поток слез, изливаемых моей душой! О священная, кого мне дано было лицезреть во имя этого страшного часа общения с тобой, я призываю тебя! Призываю тебя таинственным словом! Приди и в милосердии своем спаси меня или в гневе твоем покончи с тем, кто не в силах более переносить своего отчаяния!
Встав на ноги, я протянул руки и осмелился крикнуть страшное слово, которого нельзя произнести недостойно и не будучи наказанным смертью.
И скоро мной был получен ответ. В тишине я услыхал звук систры, возвещавшей о прибытии Славы, потом в дальнем конце комнаты увидел подобие рогатого месяца, слабо сиявшего во мраке, между золотыми рогами его клубилось маленькое темное облачко, в котором извивался огненный змей.
Мои колени подогнулись в присутствии Славы, и я упал на пол. Между тем из облака раздался нежный, чистый голос:
— Гармахис, ты был моим слугой и моим сыном, я услышала твою мольбу и призывы, которые ты осмелился произнести! В устах того, кто имел общение со мной, они имеют силу и власть вызвать меня из Аменти! Наш союз божественной любви разрушен, Гармахис, так как ты оттолкнул меня своими собственными деяниями. После долгого молчания я пришла, Гармахис, облаченная в ужас и, быть может, готовая к мщению, ибо не легко вызвать Изиду из ее божественных обителей!
— Порази, богиня, порази! — молил я. — Отдай меня тем, кто утолит твое мщение, я не могу долее выносить бремени моей тяжкой скорби!
— Если ты не можешь нести бремя скорби здесь, на Земле, — получил я ответ, — то как вынесешь величайшее бремя, которое будет возложено на тебя там? Как придешь ты загрязненным и нераскаянным в мое мрачное царство смерти, где жизнь бесконечная? Нет, Гармахис, я не поражу тебя, ибо не гневаюсь на тебя, что ты осмелился произнести страшное слово и вызвать меня! Слушай, Гармахис! Я не восхваляю и не укоряю, ибо я воздаятельница награды и наказания, исполнительница повелений! Если я даю, то даю в молчании. Я не хочу усилить твое бремя жестокими словами, хотя ты — причина того, что Изида, таинственная матерь, останется только в воспоминании Египта. Ты тяжко согрешил, и тяжко твое наказание, я предостерегала тебя и во плоти, и в царстве Аменти. Но говорю тебе, есть путь к раскаянию, и твоя нога уже вступила на него, по нему ты дол жен идти с смиренным сердцем, вкушая всю горечь жизни, пока наступит искупление!