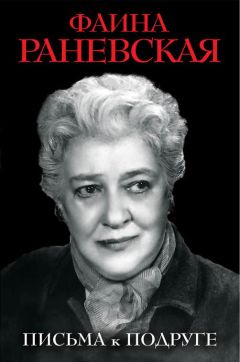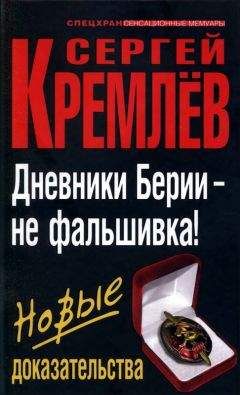Фаина Баазова - ПРОКАЖЕННЫЕ
После того первого визита Меера почти не проходило недели, чтобы мы не встречались. Как правило, он приходил ко мне; он беседовал со мной на своем сочном прекрасном иврите, несколько перегруженном, как мне тогда казалось, цитатами из Библии и из классической ивритской поэзии, большей частью из любимого им Иехуды ха-Леви и из Бялика, и читал. Каждый раз он брал с собой какую-нибудь книгу на иврите и возвращал ее в свой следующий приход. Мы говорили о многом. Но все же главными темами были две – иврит и ивритская литература и Израиль. Его познания о географии Эрец-Исраэль были потрясающими. Мне кажется, он знал все ее горы, все долины, все вади – не было ничего, чего бы он не знал. Мы оба мечтали жить в Израиле, но в первые годы нашего знакомства то была мечта, у которой, казалось, не было никаких шансов осуществиться когда-либо.
Я посещал его реже. Библиотека его состояла, в основном, из русских книг по его специальности – какая-то сложная инженерная профессия, связанная с электроосвещением дорог. Книг на иврите было мало, большей частью – изданные в Восточной Европе в дореволюционные и первые послереволюционные годы. Было несколько грузинских книг. Как-то он показал мне книгу на грузинском языке о своем брате, о Герцеле, написанную, насколько мне помнится, Георгием Цициашвили и опубликованную в Тбилиси в 1964 году, и сухо заметил: "Сначала они убили его, а теперь велят публиковать о нем книги и статьи".
"Они" – было в его устах постоянным определением советской власти. О ней и вообще о том, что происходило в Советском Союзе (кроме еврейских аспектов) он не любил говорить – ни одобрительно, разумеется, ни отрицательно. Он не скрывал, конечно, от меня своей антипатии к властям, но эта тема находилась как бы по ту сторону его интересов. Меер жил одновременно в двух мирах: физическое его существование протекало в городе, именуемом Москвой, но душа его обитала в царстве иврита. У этого царства были географические границы – границы Эрец-Исраэль – и границы более широкие, простирающиеся не на поверхности земли, а во времени – границы истории нашего народа и его культуры.
Я заметил, что он был весьма разборчив и осторожен в выборе друзей и знакомых. Но после Шестидневной войны круг его знакомых значительно расширился. Иногда я встречал у него "еврейских" евреев (московские и вообще советские евреи делились тогда для меня на "еврейских", то есть тех, кто интересовался своим еврейством, и на "нееврейских" – которые им не интересовались и зачастую старались скрыть свое еврейское происхождение и избавиться от памяти о нем). Иногда я встречал его и в компаниях национально настроенной молодежи. Многие тянулись к нему из-за того, что он так разительно отличался от них: они не знали ни языка, ни культуры, ни истории своего народа, для него же его еврейство было чем-то естественным, само собой разумеющимся.
Смерть одного за другим двух его близких друзей (оба они, безусловно, были для него более близкими друзьями, чем я, несмотря на то, что вот уже несколько лет мы с ним были столь близки и дружны и встречались столь часто) – Цви Прейгерзона в 1968 году и Цви Плоткина в 1969 году – была для него тяжелейшим ударом. После смерти Прейгерзона я впервые видел его плачущим. На похоронах Плоткина глаза его тоже были красны от слез.
В те годы я уже был "трефным" в глазах властей из-за моего участия в демократическом движении. Мой телефон прослушивался, и иногда в трубке раздавались посторонние голоса – вероятно, чтобы запугать меня. Письма, которые я отправлял внутри Советского Союза, открывались, просматривались и снова заклеивались с нарочитой неряшливостью – чтобы припугнуть тех, с кем я переписывался. (Разумеется, вся моя переписка с заграницей тоже просматривалась, но такой перлюстрации подвергалась и подвергается переписка всех граждан СССР с заграницей). Некоторые из тех, кто еще недавно был среди постоянных посетителей моего дома, прервали со мной всякие контакты. (Один из них числится сейчас в интеллектуальных лидерах "новой русской эмиграции" на Западе, в большинстве своем состоящей, как известно, из евреев). Меер Баазов продолжал приходить ко мне как и прежде – примерно раз в неделю. Он не скрывал того, что не одобряет моего участия в движении. "Что тебе, иври[14], до всего этого?" – неоднократно говорил он мне. Я старался объяснить ему свою позицию, но он оставался при своем мнении.
В конце 1969 года я перенес сложную и тяжелую операцию, после которой пролежал еще два месяца – сначала в той же больнице, где меня оперировали, а затем в специальном курортологическом институте. Меер навещал меня раз в две недели. Во время одного из посещений он извинился, что не может приходить чаще. Причины он не объяснил. Недели через две после моего возвращения домой, в январе 1970 года, мне позвонил сын Меера и сказал, что отец внезапно скончался от инфаркта. Помолчал секунду, а потом спросил, не могу ли я научить его читать кадиш. Я поспешил к ним. Похороны Меера были отложены до приезда в Москву его сестер. Только тогда я познакомился с ними. К шлоишм, тридцатому дню после смерти Меера, я отправил им письмо. Чтобы оно не попало в руки КГБ, в нижней части конверта, там, где на советских конвертах положено писать адрес отправителя, – я написал вымышленный адрес. Письмо это дошло и было прочитано вслух и полностью при большом стечении народа – перед всеми, кто пришел отдать Мееру последний долг. После моего приезда в Израиль еще на протяжении нескольких лет многие бывшие тбилиссцы, услышав мое имя, спрашивали: "Не тот ли вы Занд, что написал письмо, которое читалось в Тбилиси в день шлошим Меера Баазова?"
Мне кажется, я не смогу лучше передать свои чувства, чем сделал это тогда в том письме. Поэтому позволю себе привести здесь его полностью:
Москва, 6-7/II 1970 г.
Дорогие Фаина Давидовна и Полина Давидовна! Надеюсь, это письмо уже будет в вашем доме, когда к вам придут родные, друзья и знакомые, чтобы по обычаю нашего народа отметить шлошим – тридцать дней со дня смерти вашего брата и моего друга Меера Баазова, зихроно ливраха – да будет благословенна его память.
Десять мужчин – миньян – нужно для того, чтобы можно было отметить шлошим. Я уверен, что их будет гораздо больше. Да письмо и не может заменить человека. И все же пусть это мое письмо будет знаком моего незримого присутствия в вашем доме в день скорби по моему другу.
Я мог бы сейчас предаться воспоминаниям, рассказать вам (и в который раз самому себе), как впервые встретился с ним у нашего общего друга, ныне, увы, тоже покойного, как быстро сблизились мы, несмотря на разницу в годах… Но для воспоминаний час не пришел: горечь утраты еще слишком свежа, да и не вместить всех воспоминаний, и даже тех, что представляются самыми существенными.
Поэтому я хотел бы сказать в этом письме лишь немногое, лишь несколько слов о том, что сложилось давно и незыблемо, о том, каким запечатлелся в моем уме и моем сердце образ Меера Баазова, в чем я вижу его неповторимость и, если хотите, его символичность.
Он был талантливым инженером. Он показывал мне свои печатные работы в той специфической, внушающей мне почтение, но не понятной для меня области, в которой он работал. Но как бы ни были ценны его работы в этой области, думаю, не обижу его память, если скажу, что не в его профессиональной одаренности вижу я его неповторимость.
Он несомненно обладал такими добрыми человеческими качествами, как скромность, отзывчивость, любовь к семье, привязанность к друзьям, но разве мало людей, обладающих этими добрыми человеческими качествами?
Один еврейский законоучитель и поэт, живший в средние века, имел почетное прозвище Меор ха-гола. Этот титул дали ему не власть имущие той страны, где он жил. Так назвал его народ, а на языке нашего народа Меор ха-гола означает светоч диаспоры, светоч для народа, жившего вне своей страны, в странах рассеяния.
Ваш отец Давид Баазов, ставший уже легендой, дал этому из трех своих сыновей имя Меер, что означает озаряющий, светящий, и Меер Баазов действительно был светящим, озаряющим путь.
В ночи всеобщего национального упадка, забвения своего языка, своей культуры, во тьме неведения своего "я", которая стала во многом, очень во многом уделом нашего народа в этой стране, Меер Баазов действительно был Меор ха-гола, светочем изгнания. И дело здесь не в том, что он превосходно знал язык нашего народа, что он, как никто, может быть, сейчас в этой стране, знал и великую средневековую поэзию на этом языке и блестящую нашу поэзию нового времени: превосходно можно знать и чужое – мало ли блестящих знатоков, к примеру, древнеегипетского языка, или средневековой литературы Ирана, или английской культуры нового времени?.. Иврит был для Меера Баазова родным языком его народа и, следовательно, его родным языком, еврейская культура была для него родной культурой его народа и, следовательно, его родной культурой.