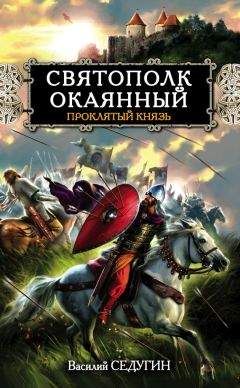Хаим Зильберман - ВОССТАНИЕ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ
– Ну, что там такого… особенного?
– Как ты можешь так говорить! – в шутливом возмущении закричал лейтенант. – Ты только посмотри, что там! Да не тут смотри, а в конце письма. Ну как? Что это, по-твоему?
– По-моему, это… – старый солдат бросил на лейтенанта опасливый взгляд (как бы, чего доброго, не обидеть человека!), – по-моему, это клякса… Обыкновенная чернильная клякса!
– Правильно! – обрадовался лейтенант. – А что это за чернильная клякса, кто её сделал, ты знаешь?..
И с сожалением добавил:
– Не знаешь…
Он подскочил на месте и неожиданно обнял солдата.
– Да это мой сын сделал кляксу! – восторженно воскликнул он. – Понимаешь? Мой Алик. Собственноручно!.. Вот какие мы молодцы! Вот какие кляксы умеем делать! Это мы так папке на фронт письма пишем.
Лейтенант подсел к столу и принялся с самым серьёзным видом измерять кляксу, чтобы установить величину указательного пальчика ребенка…
– Вы и представить себе не можете, что это за парень, – бормотал он. – Дайте только срок, вы и сами увидите, что это за парень!
Случалось, что лейтенант Лемперт задерживался в какой-нибудь роте и оставался там ночевать. В такие вечера маленький редакционный коллектив собирался после ужина в типографии, чтобы поскучать, вспомнить о родных… Почему-то все считали самым подходящим местом для этого стол секретаря редакции. Усаживались вокруг и молчали, слушая, как за окном шумит осенняя непогода. Так было и в тот памятный вечер…
Васька Сокол, помощник Тимофеича, ученик-наборщик, он же печатник, то есть тот, кто крутит ручку плоскопечатной машины, когда выпускается номер газеты, он же шофёр, он же и сторож, уселся поближе к молчавшему радиоприёмнику и с детским любопытством принялся разглядывать кирзовую полевую сумку лейтенанта.
– Удивительно! – усмехнулся Васька. – Зачем лейтенанту такая большая сумка?
– А затем, чтобы тебе было о чём болты болтать! – оборвал его Тимофеич, ревниво оберегавший всё, что принадлежало Лемперту.
– Нет, в самом деле, что он туда кладёт? – не унимался Васька.
– Тебе-то какое дело? – рассердился старый солдат.
Не обращая внимания на раздражение Тимофеича, Васька принялся рассуждать о том, что можно положить в такую здоровенную сумку.
– Ерунда какая-то! – заключил он под конец. – Не то карман, не то солдатский мешок! Одно название что сумка!
– Так она же для бумаг! – пояснил Тимофеич.
– Это только так говорится! – засмеялся Васька. – А смотришь, сунули туда бельё! Вон как раздулась! Была бы для бумаг, так и письмо положил бы туда, а то, гляди, его уж и класть некуда. Поверх сумки валяется…
В самом деле, на сумке лежало письмо. То ли лейтенант забыл его отправить, чему, впрочем, никто из нас не поверил бы, то ли решил оставить до завтра, чтобы дописать несколько слов.
И снова наступила тишина. Хотелось молчать и думать о письмах, которые никогда и нигде не бывают так дороги, как на фронте.
Скрипнула дверь, и на пороге показался наш редактор капитан Перфильев. Мы все вскочили. Капитан махнул рукой и прошел к столу. Никто не садился: очень уж возбуждённым показалось нам лицо капитана, всегда спокойного, даже несколько флегматичного человека.
– Только что звонили из ПМП (Полковой медицинский пункт) шестьдесят девятого полка! – неожиданно сказал капитан.
Мы переглянулись. Тимофеич взволнованно спросил:
– Случилось что-нибудь?
– Нашего лейтенанта к ним доставили…
– Шестьдесят девятый стоит аж в Филияцах, до них километров восемнадцать будет, – сказал Васька.
– Всё же надо сходить! – заторопился Тимофеич.
– Я тоже пойду! – сказал капитан.
Это было поздно вечером, а на рассвете коллектив редакции дивизионной газеты хоронил своего секретаря, лейтенанта Бориса Лемперта. Мы стояли у холмика мёрзлой земли и молча прислушивались к бушевавшему вокруг ветру. Тимофеич и Васька Сокол принесли еловых ветвей и покрыли ими свежую могилу.
А полевая сумка погибшего товарища продолжала лежать на столике рядом с радиоприёмником, словно ожидая своего хозяина, который почему-то дольше обыкновенного задержался в одной из рот. На сумке по-прежнему лежало письмо.
Казалось, стоит кому-нибудь тронуть письмо, и тут же появится лейтенант, как всегда возбуждённый, торопливый, и сердито спросит:
– Что вы тут роетесь в моих бумагах?
Вещи эти шли вместе с нами – переезжали, мчались вслед за наступающей дивизией, всё дальше и дальше уходя от небольшого холмика, покрытого еловыми ветками…
Однажды, это было ранним утром, почтальон принёс письмо и положил его на стол. Весь день к письму никто не прикасался, и только вечером, когда все мы, как обычно, собрались в редакции, Васька Сокол разорвал конверт, и мы снова увидели чернильную кляксу. Казалось, она стала немного больше. Тимофеич снял очки с чуть приплюснутого носа и большой, твёрдой ладонью вытер глаза.
Тогда я протянул руку к давно написанному лейтенантом письму и показал его Тимофеичу. Впервые мы развернули эти заветные листки. Старый солдат снова надел очки, почему-то долго поправлял их, прилаживал к глазам, и все мы молча принялись читать.
«Сыночек мой, солнышко моё!» – писал сыну лейтенант Борис Лемперт…
Каждый читал про себя, и у всех у нас вдруг родилась совершенно неожиданная, может быть недостойная солдата, мысль. Мы без слов поняли друг друга.
В тот же вечер Васька Сокол отправился на почту. Мы с Тимофеичем сели на лавочку против кассы со шрифтами, закрутили цигарки и молча затянулись. На сердце у нас было тревожно. Как будто Васька мог вернуться и сказать, что на почте отказались принять письмо…
Кто знает, сколько мы просидели бы так. От неспокойных мыслей нас отвлек радиоприёмник, возвестивший:
– Внимание! Внимание! Говорит Москва. От Советского Информбюро!..
В тот вечер в нашу небольшую редакционную семью снова вернулся лейтенант Борис Лемперт. Он просто дольше обычного задержался в какой-то роте и теперь пришел назад. Правда, он не занимал уже места у радиоприёмника и его большая голова не нависала над столом, но мы, его товарищи, может быть, даже явственней, чем прежде, слышали его голос, видели его торопливую походку, чувствовали его дыхание, ощущали его тепло. Поэтому-то мы так взволнованно и нетерпеливо ждали ответного письма от Алика – ждали новой чернильной кляксы. Волнение наше с каждым днём всё росло. Начинало казаться, что полевая почта работает из рук вон плохо и обязательно затеряет письмо Алика. Вероятно, мы никогда ещё так ревностно не следили за работой полевой почты, как в эти дни. Стоило кому-нибудь из нас встретить почтальона, и на его голову сыпались упреки: до чего они медлительны, неоперативны, не понимают солдатской души…
На самом деле ответ пришел вовремя. Увидев письмо, мы растерялись. Васька Сокол побледнел, а Тимофеич принялся с невиданной быстротой хватать буквы из кассы.
Потом каждый из нас по очереди держал в руках мелко исписанные листки, разглядывал чернильную кляксу на последней страничке и думал об Алике, о том, что он уже совсем большой парнишка, скоро ему будет два года и он ждёт письма…
Мысли эти наполняли наши сердца невыносимой горечью.
В редакцию, как всегда тихо, вошел капитан Перфильев. Мы встали, приветствовали начальника и постарались, как умели, скрыть письмо. Может быть, поэтому капитан сразу заметил его.
– «Лейтенанту Борису Лемперту», – прочитал он и умолк.
Наступила тишина. Её прервал Тимофеич.
– Не суждено было лейтенанту увидеть сына! – сказал он и громко, тяжело вздохнул. Больше никто ничего не сказал.
Это случилось в одну из тех ночей, когда молодой снег, словно дождавшийся наконец своего часа, сыпался без конца, покрывая все окрестности белой мглой. В редакции уже кончили работу. Мы с Васькой Соколом только было успели вынести из типографского грузовика свежий тираж газеты, как начался обстрел. Артиллерийский снаряд лёг в двух шагах от машины. Мы бросились на землю, а когда подняли головы, то увидели, что от нашей походной типографии осталась лишь куча железного лома; по ровному и большому крестьянскому двору ещё катилось колесо и наконец упало в воронку, только что вырытую снарядом.
Утром наш капитан вернулся из политотдела и сообщил, что меня командируют в Москву для получения походной типографии. Через час я прощался с товарищами. Тимофеич вышел провожать меня. Шли молча. Перед самым расставанием он напомнил:
– В Москве надо будет зайти к Алику!.. Смотри не забудь!
Я уже и сам думал об этом. Мне предстояла встреча с Аликом – в этом я не сомневался, – но что я мог сказать его матери?.. В вагоне мне удалось забраться на третью полку. Прижатый к самому потолку, под которым скопились густые облака махорочного дыма вперемешку с крепкими парами солдатского пота, я почти четверо суток лежал на полке и думал о том, что я скажу матери Алика. После долгих раздумий я всё же пришел к решению: надо сказать всю правду, не скрывать ничего. Это будет лучшим объяснением и оправданием нашего поступка.