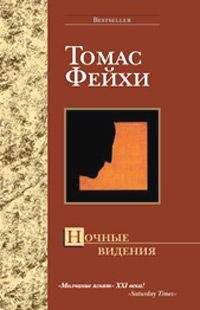Дмитрий Мережковский - Юлиан Отступник
Растоптал его ногами и, в третий раз, подымая руки к небу, воскликнул:
— Отныне и до смерти, только Солнце — мой венец!
Таинство было кончено. Максим обнял посвященного.
На губах старика скользила все та же двусмысленная, неверная улыбка.
Когда они возвращались по лесной дороге, император обратился к волшебнику:
— Максим, мне кажется иногда, что о самом главном ты молчишь…
И он обернул свое лицо, бледное, с красными пятнами таинственной крови, которую, по обычаю, нельзя было стирать.
— Что ты хочешь знать, Юлиан?
— Что будет со мною?
— Ты победишь.
— А Констанций?
— Констанция нет.
— Что ты говоришь?..
— Подожди. Солнце озарит твою славу.
Юлиан не посмел расспрашивать. Они молча вернулись в лагерь.
В палатке Юлиана ожидал вестник из Малой Азии.
То был трибун Синтула.
Он стал на колени и поцеловал край императорского полудаментума.
— Слава блаженному августу Юлиану!
— Ты от Констанция, Синтула?
— Констанция нет.
— Как?
Юлиан вздрогнул и взглянул на Максима, сохранявшего невозмутимое спокойствие.
— Изволением Божьего Промысла, — продолжал Синтула, — твой враг скончался в городе Мопсукренах, недалеко от Мацеллума.
На следующий день вечером собраны были войска.
Они уже знали о смерти Констанция.
Август Клавдий Флавий Юлиан взошел на обрыв, так что все войска могли его видеть, — без венца, без меча и брони, облеченный только в пурпур с головы до ног; чтобы скрыть следы крови, которую не должно было смывать, пурпур натянут был на голову, падал на лицо.
В этой странной одежде походил он скорее на первосвященника, чем на императора.
За ним, по склону Гама, начинаясь с того обрыва, где он стоял, краснел увядающий лес; над самой головой императора пожелтевший клен в голубых небесах шелестел и блестел, как золотая хоругвь.
До самого края неба распростиралась равнина Фракийская; по ней шла древняя римская дорога, выложенная широкими плитами белого мрамора, — ровная, залитая солнцем, как будто триумфальная, бежала она до самых волн Пропонтиды, до Константинополя, второго Рима.
Юлиан смотрел на войско. Когда легионы двигались, по медным шлемам, броням и орлам, от заходящего солнца, вспыхивали багровые молнии, концы копий над когортами теплились, как свечи.
Рядом с императором стоял Максим. Наклонившись к уху Юлиана, шепнул ему:
— Смотри, какая слава! Твой час пришел. Не медли!
Он указал на христианское знамя, Лабарум, Священную хоругвь, сделанную для римского воинства по образу того огненного знамени, с надписью Сим победиши, которое Константин Равноапостольный видел на небе.
Трубы умолкли. Юлиан произнес громким голосом:
— Дети мои! Труды наши кончены. Благодарите олимпийцев, даровавших нам победу.
Слова эти расслышали только первые ряды войска, где было много христиан; среди них произошло смятение.
— Слышали? Не Господа благодарит, а богов олимпийских, — говорил один солдат.
— Видишь-старик с белой бородой?-указывал другой товарищу.
— Кто это?
— Сам дьявол в образе Максима-волхва: он-то и соблазнил императора.
Но отдельные голоса христианских воинов были только шепотом. Из дальних когорт, стоявших сзади, не расслышавших слов Юлиана, подымался восторженный крик:
— Слава божественному августу, слава, слава!
И все громче и громче, с четырех концов равнины, покрытой легионами, подымался крик:
— Слава! Слава! Слава!
Горы, земля, воздух, лес дрогнули от голоса толпы.
— Смотрите, смотрите, наклоняют Лабарум, — ужасались христиане.
— Что это? Что это?
Древнюю военную хоругвь, одну из тех, которые были освящены Константином Великим, — склонили к ногам императора.
Из лесу вышел солдат-кузнец, с походной жаровней, закоптелыми щипцами и котелком, в котором носили олово; все это, с неизвестной целью, приготовлено было заранее.
Император, бледный, несмотря на отблеск пурпура и солнца, сорвал с древка Лабарума золотой крест и монограмму Христа из драгоценных каменьев. Войско замерло. Жемчужины, изумруды, рубины рассыпались, и тонкий крест, вдавленный в сырую землю, погнулся под сандалией римского Кесаря.
Максим вынул из великолепного ковчежца обернутое в шелковые голубые пелены маленькое серебряное изваяние бога Солнца, Митры-Гелиоса.
Кузнец подошел, в несколько мгновений искусно выправил щипцами погнувшиеся крючки на древке Лабарума и припаял оловом изваяние Митры.
Прежде чем войска опомнились от ужаса, Священная хоругвь Константина зашелестела и взвилась над головой императора, увенчанная кумиром Аполлона.
Старый воин, набожный христианин, отвернулся и закрыл глаза рукою, чтобы не видеть этой мерзости.
— Кощунство! — пролепетал он, бледнея.
— Горе! — шепнул третий на ухо товарищу. — Император отступил от церкви Христовой.
Юлиан стал на колени перед знаменем и, простирая руки к серебряному изваянию, воскликнул:
— Слава непобедимому Солнцу, владыке богов! Ныне поклоняется август вечному Гелиосу, Богу света. Богу разума. Богу веселия и красоты олимпийской!
Последние лучи солнца отразились на беспощадном лике Дельфийского идола; голова его окружена была серебряными острыми лучами; он улыбался.
Легионы безмолвствовали. Наступила такая тишина, что слышно было, как в лесу, шелестя, один за другим, падают мертвые листья.
И в кровавом отблеске вечера, и в багрянице последнего жреца, и в пурпуре увядшего леса — во всем была зловещая, похоронная пышность, великолепие смерти.
Кто-то из солдат, в передних рядах, произнес так явственно, что Юлиан услышал и вздрогнул:
— Антихрист!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Рядом с конюшнями, в ипподроме Константинополя находилось помещение, вроде уборной, для конюхов, наездниц, мимов и кучеров. Здесь, даже днем, коптели подвешенные к сводам лампады. Удушливый воздух, пропитанный запахом навоза, веял теплотой конюшен.
Когда завеса на дверях откидывалась, врывался ослепительный свет утра. В солнечной дали виднелись пустые скамьи для зрителей, величественная лестница, соединявшая императорскую ложу с внутренними покоями Константинова дворца, каменные стрелы египетских обелисков и, посреди желтого, гладкого песка, исполинский жертвенник из трех перевившихся медных змей: плоские головы их поддерживали дельфийский треножник великолепной работы.
Иногда с арены доносилось хлопанье бича, крики наездников, фырканье разгоряченных коней и шуршание колес по мягкому песку, подобное шуршанию крыльев.
Это была не скачка, а только подготовительное упражнение к настоящим играм, назначенным на ипподроме через несколько дней.
В одном углу конюшни голый атлет, натертый маслом, покрытый гимнастической пылью, с кожаным поясом по бедрам, подымал и опускал железные гири; закидывая курчавую голову, он так выгибал спину, что кости в суставах трещали, лицо синело, и бычачьи жилы напрягались на толстой шее.
Сопутствуемая рабынями, подошла к нему молодая женщина в нарядной утренней столе, натянутой на голову, опущенной складками на тонкое родовитое и уже отцветавшее лицо. Это была усердная христианка,-любимая всеми клириками и монахами за щедрые вклады в монастыри, за обильные милостыни, — приезжая из Александрии вдова римского сенатора. Сперва скрывала она свои похождения, но скоро увидела, что соединять любовь к церкви с любовью к цирку считается новым светским изяществом. Все знали, что Стратоника ненавидит константинопольских щеголей, завитых и нарумяненных, изнеженных, прихотливых, как она сама. Такова была ее природа: она соединяла драгоценнейшие аравийские духи с раздражающей теплотой конюшни и цирка; после горячих слез раскаяния, после потрясающей исповеди искусных духовников, этой маленькой женщине, хрупкой, как вещица, выточенная из слоновой кости, нужны были грубые ласки прославленного конюха.
Стратоника смотрела на упражнения атлета с видом тонкой ценительницы. Сохраняя тупоумную важность на бычачьем лице, гимнаст не обращал на нее внимания. Она что-то шептала рабыне на ухо и с простодушным удивлением, заглядевшись на могучую голую спину атлета, любовалась тем, как страшные геркулесовские мускулы двигаются под жесткой красно-коричневой кожей на огромных плечах, когда, разгибаясь и медленно вбирая воздух в легкие, как в кузнечные мехи, подымал он железные гири над звероподобной, бессмысленно красивой головой.
Занавеска откинулась, толпа зрителей отхлынула, и две молодые каппадокийские кобылы, белая и черная, впорхнули в конюшню, вместе с молодой наездницей, которая ловко, с особенным гортанным криком, перепрыгивала с одной лошади на другую. В последний раз перевернулась она в воздухе и соскочила на землю-такая же крепкая, гладкая, веселая, как ее кобылицы; на голом теле виднелись маленькие капли пота. К ней подскочил с любезностью молодой щегольски одетый иподиакон из базилики св. Апостолов, Зефирин, большой любитель цирка, знаток лошадей и завсегдатай скачек, ставивший огромные заклады за партию «голубых» против «зеленых». У него были сафьянные скрипучие полусапожки на красных каблуках.