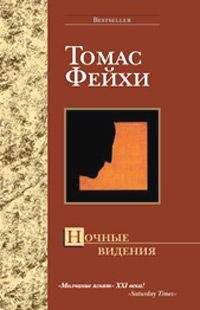Дмитрий Мережковский - Юлиан Отступник
Тогда грубый легионер сорвал с боевого коня нагрудник из медных блях-фалеру, и предложил венчать августа ею.
Это не понравилось: от кожи нагрудника пахло потом лошадиным.
Все стали нетерпеливо искать другого украшения. Знаменосец легиона петулантов, сармат Арагарий, снял с шеи медную чешуйчатую цепь, присвоенную званию его.
Юлиан два раза обернул ее вокруг головы: эта цепь сделала его римским августом.
— На щит, на щит! — кричали солдаты.
Арагарий подставил ему круглый щит, и сотни рук подняли императора. Он увидел море голов в медных шлемах, услышал подобный буре торжественный крик:
— Да здравствует август Юлиан, август Божественный! Divus Augustus!
Ему казалось, что совершается воля рока.
Факелы померкли. На востоке появились бледные полосы. Неуклюжие кирпичные башни дворца чернели угрюмо. Только в одном окне краснел огонь. Юлиан догадался, что это окно тех покоев, где умирала жена его, Елена.
Когда на рассвете утомленное войско утихло, он пошел к ней.
Было поздно. Усопшая лежала на узкой девичьей постели. Все стояли на коленях. Губы ее были строго сжаты.
От высохшего монашеского тела веяло целомудренным холодом. Юлиан, без угрызения, но с тяжелым любопытством, посмотрел на бледное, успокоенное лицо жены своей и подумал: «Зачем желала она видеть меня перед смертью? Что хотела, что могла она сказать мне?» Император Констанций проводил печальные дни в Антиохии. Все ждали недоброго.
По ночам видел он страшные сны: в опочивальне до зари горели пять или шесть ярких лампад, — и все-таки боялся он мрака. Долгие часы просиживал один, в неподвижной задумчивости, оборачиваясь и вздрагивая от всякого шороха.
Однажды приснился ему отец его, Константин Великий, державший на руках дитя, злое и сильное; Констанций, будто бы, взяв от него ребенка, посадил его на правую руку свою, в левой стараясь удержать огромный стеклянный шар; но злое дитя столкнуло шар-он упал, разбился, и колючие иглы стекла, с невыносимой болью, стали впиваться в тело Констанция — в глаза, в сердце, в мозг-сверкали, звенели, трескались, жгли.
Император проснулся в ужасе, обливаясь холодным потом.
Он стал советоваться с прорицателями, знаменитыми волшебниками, угадчиками снов.
В Антиохию собраны были войска, и делались приготовления к походу против Юлиана. Иногда императором, после долгой неподвижности, овладевала жажда действия. Многие при дворе находили поспешность его неразумной; шепотом поверяли друг другу слухи о новых подозрительных странностях и причудах Кесаря.
Была поздняя осень, когда он выступил из Антиохии.
В полдень, на дороге, в трех тысячах шагах от города, близ деревни, называвшейся Гиппокефаль, увидел император обезглавленный труп неизвестного человека; тело, обращенное к западу, оказалось лежащим по правую руку от Констанция, ехавшего на коне; голова отделена была от туловища. Кесарь побледнел и отвернулся. Никто из приближенных не сказал ни слова, но все подумали, что это дурная примета.
В городе Тарсе Киликийском он почувствовал легкий озноб и слабость, но не обратил на них внимания и даже с врачами не посоветовался, надеясь, что верховая езда по трудным горным дорогам на солнечном припеке вызовет испарину.
Он направился к небольшому городу, Мопсукренам, расположенному у подножия Тавра,-последней стоянке при выезде из Киликии.
Несколько раз, во время дороги, делалось у него сильное головокружение. Наконец, он должен был сойти с коня и сесть в носилки. Впоследствии евнух Евсевий рассказывал, что, лежа в носилках, император вынимал из-под одежды драгоценный камень с вырезанным на нем изображением покойной императрицы, Евсевий Аврелии, и целовал его с нежностью.
На одном из перекрестков он спросил, куда ведет другой путь; ему отвечали, что это дорога в покинутый дворец каппадокийских царей — Мацеллум.
При этом имени Констанций нахмурился.
В Мопсукрены приехали ввечеру. Он был утомлен и пасмурен.
Только что вошел в приготовленный дом, как один из придворных, по неосторожности, несмотря на запрет Евсевия, сообщил императору, что его ожидают два вестника из западных провинций.
Констанций велел их привести.
Евсевий умолял отложить дело до утра. Но император возразил, что ему лучше,-озноб прошел, и он чувствует теперь только легкую боль в затылке.
Впустили первого вестника, дрожащего и бледного.
— Говори сразу!-воскликнул Констанций, испуганный выражением лица его.
Вестник рассказал о неслыханной дерзости Юлиана: цезарь перед войсками разорвал августейшее письмо; Галлия, Паннония, Аквитания передались ему; изменники выступили против Констанция со всеми легионами, расположенными в этих странах.
Император вскочил, с лицом, искаженным яростью, бросился на вестника, повалил его и схватил за горло:
— Лжешь, лжешь, лжешь, мерзавец! Есть еще Бог, Царь Небесный, покровитель земных царей. Он не допустит, — слышите вы все, изменники, — не допустит Он…
Вдруг ослабел и закрыл глаза рукою. Вестник, ни живой, ни мертвый, успел юркнуть в дверь.
— Завтра, — бормотал Констанций глухо и растерянно,-завтра в путь… прямо, через горы… ускоренным ходом, в Константинополь!..
Евсевий, подойдя к нему, склонился раболепно:
— Блаженный Август, Господь даровал тебе, Своему помазаннику, одоление над всеми врагами и супостатами: ты победил буйного Максенция, Констана, Ветраниона, Галла. Ты победишь и богопротивного…
Но Констанций, не слушая, прошептал, качая головой, с бессмысленной улыбкой:
— Значит, нет Бога. Если только все это правда, значит, Бога нет; я — один. Пусть кто-нибудь осмелится сказать, что Он есть, когда творятся такие дела на земле.
Я уже давно об этом думал…
Вопросительно обвел он всех мутными глазами и прибавил бессвязно:
— Позвать другого.
К нему приступил врач, придворный щеголь с бритым розовым наглым лицом, с бегающими рысьими глазками, еврей, притворявшийся римским патрицием. Подобострастно заметил он императору, что чрезмерное волнение может быть ему вредно, что необходим отдых. Констанций только отмахнулся от него, как от надоедливой мухи.
Ввели другого вестника. Это был трибун цезарских конюшен, Синтула, бежавший из Лютеции. Он сообщил еще более страшную весть: ворота города Сирмиум открылись перед Юлианом, и жители приняли его радостно, как спасителя отечества; через два дня он должен выйти на большую римскую дорогу в Константинополь.
Последних слов вестника император как будто не расслышал или не понял. Лицо его сделалось странно неподвижным. Он подал знак, чтобы все удалились. Остался Евсевий, с которым хотел он заняться делами.
Через некоторое время, почувствовав утомление, приказал, чтобы отвели его в спальню, и сделал несколько шагов. Но вдруг тихо простонал, поднес обе руки к затылку, как будто почувствовал сильную мгновенную боль, и пошатнулся. Придворные едва успели его поддержать.
Он не потерял сознания: по лицу, по всем движениям, по жилам, напрягавшимся на лбу, заметно было, что он делает неимоверные усилия, чтобы говорить; наконец, произнес медленно, выговаривая каждое слово шепотом, как будто сдавили ему горло:
— Хочу говорить… и не… могу…
То были последние слова его: он лишился языка; удар поразил всю правую сторону тела; правая рука и нога безжизненно повисли.
Его перенесли на постель.
В глазах была тревога и напряженная, непотухавшая мысль. Он усиливался сказать что-то, отдать, может быть, важное приказание, но из губ вырывались неясные звуки, походившие на слабое непрерывное мычание. Никто не мог понять, что он хочет, и больной поочередно обводил всех ясными глазами. Евнухи, придворные, военачальники, рабы толпились вокруг умирающего, хотели и не знали, чем услужить ему в последний раз.
Порою злоба вспыхивала в разумном пристальном взоре; тогда мычание казалось сердитым.
Наконец, Евсевий догадался и принес навощенные дощечки. Радость блеснула в глазах императора. Крепко и неуклюже, как маленькие дети, левою рукой ухватился он за медный стилос. После долгих усилий удалось ему вывести на мягком слое желтого воска несколько каракуль.
Придворные с трудом разобрали слово: «креститься».
Он устремил на Евсевия неподвижный взор. Все удивились, что раньше не поняли: императору угодно было креститься перед смертью, так как, по примеру отца своего Константина Равноапостольного, откладывал он великое таинство до последней минуты, веря, что оно может сразу очистить душу от всех грехов — «обелить ее паче снега».
Бросились отыскивать епископа. Оказалось, что в Мопсукренах епископа нет. Позвали арианского пресвитера бедной городской базилики. Это был робкий, забитый человек, с птичьим лицом, острым красным носом, похожим на клюв, и острой бородкой. Когда пришли за ним, отец Нимфидиан — так звали его — приступал к десятому кубку дешевого красного вина и казался слишком веселым.