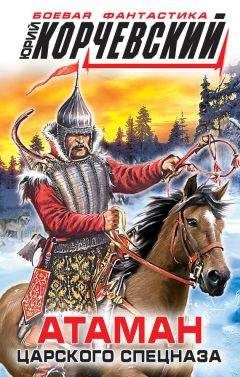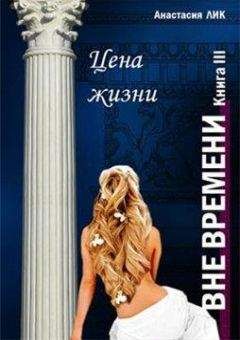Юрий Крутогоров - Повесть об отроке Зуеве
Какие разные эти русские. Казак — он одно обращение знает. Растопырит десять пальцев, а потом в придачу еще два. Гони, самоед, десять белок и два соболя. Ясак — закон. Не перечь. Но зачем требовать сверх закона?
А Васи — он тоже русский — совсем другой. Нату-ра-лис-сса! И у русских есть свои роды, как у жителей тундры, — род казаков, род купцов, род натуралиссы.
Какая тамга у натуралиссы? Тамга эзингейцев — олень.
Даже старики не помнят, почему и когда эзингейцы стали людьми оленя.
У каждого рода должна быть тамга. А у натуралиссы? Дух у него есть: Нау-ка. А тамга? Может, на его тамге вырезано лицо царицы? Как на деньгах. Нау-ка. На-ту-ра-лис-са. Эптухаю нравились эти слова.
Спозаранку надел лыжи и побежал в тундру ставить кляпцы. Он знал, где ставить. Так собака чует место, где хоть раз побывала.
Прыгал с кочки на кочку. Гнилая вода выдавливалась из-под лыж.
Байдарата бесилась возле порогов. То она меж камней закипала, брызгаясь и накрываясь пеной, то закручивалась в водоворотах, втягивая в воронку щепки, листья, кору.
Эптухай побежал по берегу и увидел остатки временного становья — кругом валялись березовые жерди; на зеленом мху там и сям рыбья чешуя, еще не сгнившие потроха. Эптухай поднял жердь. Совсем свежая. И догадался — это Васи со своими людьми тут стоял. Они шли к Ледяному морю, к отрогам Каменного пояса.
Высоко поднимая лыжи, Эптухай заспешил дальше. Он не помнил, сколько прошло времени, когда саженях в двадцати от обрыва, круто падающего к реке, увидел невысокий, свежевскопанный бугорок. Его венчал деревянный крест.
Эптухай присел на валун, поросший, как шерстью, зеленью тундры. Достал из-за пазухи трубку, набил табаком, кремнем высек огонек. И задохнулся от дыма. Подул резкий ветер. Охотник поежился: то ли от стужи, то ли от ужаса.
В стойбище Эптухай явился к Силе.
Шаман опустил голову.
— Хороший был луце, — сказал он. — Мне его жаль.
— Почему ты думаешь, что он умер?
— Слабый. Тае-Ввы забирает слабых.
— Я пойду искать их. Они сбились с дороги. Еда кончилась, огонь потеряли.
— У русских есть свой дух, — твердил шаман. — Если он не захотел помочь, чем поможешь ты?
— Пусть так. Переправлюсь на оленях через Байдарату. Могила одна, их было четверо.
— Однако мы дальше пойдем. Мы не можем тебя ждать. У тебя старая мать, разве ты забыл?
— Надо найти русских! — упрямился Эптухай. — Разве не они помогли нам?
— Не забывай, ты еще мальчик. Опасности не знаешь. Голова твоя мало думает. Разве не потому обдорские казаки взяли тебя в плен?
В чуме мать шила кожаные сапоги. Игла из рыбьей кости быстро мелькала в ее пальцах.
— Сынок, ты силки ставил?
— Мать, я сейчас уйду. Еду собери.
— Куда?
— Надо.
— Что ты задумал?
Он не ответил.
У грузовых нарт Эптухая собралась толпа. Эзингейцы тихонько переговаривались между собой. Эптухай с удивлением увидел, что на нарты кто-то положил два берестяных короба. Они были доверху набиты разной снедью. Мясо вяленое, рыба сушеная, ржаные лепешки…
Подошел Сила.
— Эптухай, Эптухай… — ворчливо сказал шаман. Он развернул тряпицу — в ней была невиданная драгоценность: три головки чеснока, пара луковиц.
Эптухай запряг в нарты четырех любимых своих оленей. Несколько мужчин вызвались помочь переправиться через Байдарату. А дальше, по одному ему известным приметам, Эптухай погнал упряжку к отрогам Каменного пояса, к той точке, где горы упирались в Ледяное море.
9В недавней переправе опрокинулись нарты с харчами. Остались без муки, соли, лука…
Выбрались на противоположный берег с ног до головы мокрые, продрогшие. Костер из сырых веток больше тлел, чем грел. Дым резал глаза, в горле першило. Не злые ли духи, если веровать самоедам, обратили на трех незваных пришельцев свой гнев?
Брали на растопку сухих дровишек — и те кончились.
Зуев притоптывал намокшими сапогами (в них отвратительно хлюпала вода), пытался подбодрить спутников, но всякое его слово оставалось безответным. Спроси кто, он бы сам не сказал, откуда берется воля сопротивляться Ерофееву. Какой толк, если загинут в тоске и безвестии в неласковой стране и все записи об инородцах прахом пойдут? Не вернуться ли? Ученый Делиль и того не сделал, из Березова дал тягу. И со славой вернулся в Санкт-Петербург, затем в Париж, где стал главным королевским астрономом.
Без лука и чеснока хоть пропадай. Воспалились десны и у Ерофеева. Не мытьем, так катаньем тундра свое возьмет: в топь не загонит — цингой достанет.
Ерофеев уже не угрозами, а мольбой тронул сердце Зуева.
— Не неволь, жить хочу.
Непривычно было видеть казака таким раскисшим, жалким. Он плевал кровью.
К вечеру уснули в нартах.
Утром Зуев первым продрал глаза.
— Вану!
Остяк скинул ноги с нарт.
— Ехать?
И тут Зуев увидел, что нет третьей — ерофеевской — запряжки.
— Ёх, ёх, ёх, — сказал остяк и присел на корточки.
10Зуева не переупрямишь. Сколько можно исполнять волю мальца? Ему и своя-то жизнь не дорога. Да что он вообще о жизни знает — где бывал, что видел, какие муки испытал?.. О других ли ему думать? Два раза пустоглазая махнула косой — предупредила. Это знак! Вертаться, вертаться!
Ерофеев поднял голову. Зуев и Вану спали крепко.
Рундучок зуевский тут же — руку протяни. На что теперь Василию деньги?
Казак вспомнил, как в амбаре пообещал Зуеву вырыть при дороге ямку — хилый, в этапе не выдержит. Усмехнулся: и ямку некому будет выкопать.
Казак нашарил в рундучке деньги.
Бесшумно запряг пару важенок в нарты.
В ту ночь негаданно выпал снег.
Впереди Ерофеева ждала жуткая, бескрайняя равнина Тае-Ввы…
11Утренние студеные часы перешли в дневные.
Может быть, впервые в жизни Зуеву стало одиноко и страшно. Остяк совсем, кажется, обезумел. Будь прокляты тундра, залив, беспутное путешествие. Угробил старика Шумского, не распознал проводника, доверился случайному казаку.
— Ёх, ёх, ёх, — стенал Вану. — Жрать нечего. Ёх, ёх, ёх. Плохо Вану. Плохо Васи. Ёх, ёх, ёх.
Что за звериное причитание!
В отчаянии Зуев крикнул:
— Заткнись!
И Вану затих, точно пробкой заткнул глотку.
Снег растаял, ягель поблескивал от капелек, сочился под подошвами, как губка.
Зуев поднялся, в руках его был тяжелый дробовик. Не целясь, выстрелил. Через несколько минут ощипывал гуся. Перо, пух разлетались в разные стороны, забеляя мох.
Какое-то неистовство проснулось в нем — оно требовало действий, беспричинных слов, истошного крика.
Потрогал лоб. Знобило.
Разжигая костер, Вану со страхом поглядывал на Зуева. Никогда дичь не бил — сам пошел стрелять. Не похож на себя. Орет, а слезы по щекам катятся.
Зуев привалился к нартам. Так он долго лежал прикрыв глаза. Невпопад пришли на память вирши, читанные Шумским: «Священник на восток, на юг астроном зрит. Географ к северу, а к западу пиит…» Отчего стихотворец так распределил стороны света? На юг астроном зрит… Почему на юг? Географ к северу… Тут хоть смысл есть. Впрочем, какой он, к шуту, географ? Гимназей недоучившийся…
Зуев обернулся к остяку:
— Ну что? Тундра самоеда любит. Тундра казака не любит. Проведу куда надо. Глаз у него острый. Врал, врал, врал!..
— Вану не врал! — вскричал остяк. — Плохо говоришь. На, возьми обратно пять рублей. Не надо твоих денег. Ерофеев удрал, Вану не виноват. — И швырнул пятирублевую ассигнацию. — Зачем плакать? Я без денег пойду…
И эти простые, столь необходимые сейчас слова проводника вывели Зуева из состояния постыдного малодушия.
Хватит! Есть олени, нарты, ружья, порох. И гусей с утками считать не пересчитать!
Зуев достал из кармана медную монетку.
Каким теплым, почти родным казался отсюда Обдорский городок, кусочек России с русскими насельниками.
— Буду гадать.
— Чего? — не понял остяк.
— Решка — идем дальше. Орел — ворочаемся.
Монетка тоненькая, ее Вася хранил с той незабвенной поры, когда с матерью и Шумским ходил на Царицын луг.
Вот сейчас все и решится.
Вану покорно ждал.
— Ну, Ваня… — В Зуеве шевельнулась нежность к остяку, безропотному, верному. Зря на него наорал. Как он пятерку отдавал, дурачок. — Ну, Ваня, была не была. Знаешь, как у россиян говорят? Двум смертям не бывать…
Вася подкинул монетку.
— Гляди! — закричал Вану. — Упряжка!
Монета шлепнулась орлом вверх.
Зуев рванулся навстречу упряжке. Легкий, освобожденный, готовый все простить.
— Лу-у-це! — Эптухай ловко, на ходу, сиганул с нарт. Расставил руки. Широкая его физиономия сияла, шапка соскочила с головы. — Луце, живой!