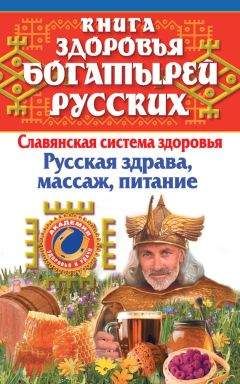Сергей Максимов - Путь Грифона
Суровцев не мог поверить Александру Александровичу. Даже подумал: «Неужели память первый раз в жизни дала сбой? Никак не мог Соткин этого знать». Его озабоченный вид рассмешил Соткина:
– Да не мучайся ты, – рассмеялся тот, – нам с Жуковым про это в шестнадцатом году, в разведке, поручик Пулков рассказал… Тот, с которым ты в немецкую форму переодевался и с которым мы с тобой потом в Финляндии встречались…
– Как сказал?
– Так и сказал: «Если капитана ранят, хватайте и спасайте… Он от царапины может Богу душу отдать»…
Сказанное не доставило Сергею Георгиевичу удовольствия. Если бы не озабоченный вид Соткина, он бы, наверное, дал словесную оценку бестактности прозвучавших слов. Но Александр Александрович продолжал развивать свою мысль о добровольном и преднамеренном заключении себя в тюрьму:
– Старые каторжане и раньше так поступали. Как только корячилось серьёзное наказание – шли на рынок, воровали какую-нибудь мелочь и на этом попадались. Потом ещё, наверное, может так быть, что я еврей, – уже точно издевался над генералом Соткин. – Евреи в лагерях сразу в гору идут…
От последнего заявления Суровцев если и не растерялся, то его душевная оторопь выразилась в недоумении, которое изменило его, обычно непроницаемое, лицо. Он вкрадчиво спросил:
– То есть как, наверное, может быть, еврей? Я всегда считал, что ты из забайкальских казаков.
– Из казаков. А фамилия, однако, какая-то и казачья, и еврейская. Казачья фамилия – от сотни. Еврейская фамилия – от сотенной купюры или от стопки стограммовой. В тюрьме опять же лучше, чтобы принимали за еврея.
Такой высокой степени оригинального мышления Суровцев и вовсе никак не ожидал.
– И что, ты теперь ко мне хуже относиться будешь? – пристально глядя на Суровцева, продолжал Соткин.
Суровцев искренне рассмеялся:
– Я и думать об этом не буду. Не хочу, знаешь ли…
– А вопрос-то серьёзный. Я матушку свою спрашивал… Кто? Откуда? Я же любопытный. Что-то всегда в семье недоговаривали… Я же чувствую…
– Ну, в Сибири во многих семьях о своём происхождении недоговаривают. Через Томск людей на север сейчас баржами везут. Что ты думаешь, они своим детям и внукам всё расскажут? А которые за триста с лишним лет сюда в кандалах, пешком пришли? Так они всё о себе своим потомкам и рассказали! Потом и в одной семье могут быть разногласия по, казалось бы, самому простому вопросу. Мои тётушки покойные никак не могли прийти к единому мнению об участии моих дедов и прадедов в восстании декабристов. Потом посмотри, как за какие-то годы исчезли в России такие фамилии, как Корнилов, Деникин, Врангель. Почему исчезли – объяснять излишне…
– Почему?
– Сменили люди фамилии. Не хотят, чтобы их роднёй врагов народа считали…
– Сергей Георгиевич, а ты сам, по совести говоря, кем себя ощущаешь? Немцем или русским? – вдруг совсем огорошил Суровцева собеседник.
– Если я крещён как православный, то кто я?
– Точно. А я всё голову ломал, чего большевики так попов не любят? А вот поэтому и не любят. Православие – это же завод для производства русских. Православный – значит русский. А русский – значит православный. Толково придумано.
– Мы с тобой русские офицеры. Это даже больше, чем просто русский. Пётр Первый, говорят, сказывал своему шотландскому другу: «Русский тот, кто Россию любит и Россию защищает».
– Одно точно я знаю, – вздохнул Соткин, – для чего-то мы были сильно нужны, если новая власть нас как кротов изводит. Тысячи полторы нашего брата опять под заговор подгребли… Не мотайся я по северам, а ты не имей дело с немыми – нас с тобой давно бы оприходовали…
– Всё так, – согласился Суровцев, – но с хождением по тюрьмам ты пока не спеши.
– Почему?
– Время чуть позже придёт. Я даже скажу когда…
– Когда?
– Через три года.
– Сейчас тридцать четвёртый… В тридцать седьмом, что ли?
– Да.
– Почему?
– Двадцатилетний юбилей переворота. Они свой юбилей как-нибудь особенно отметят.
– А как они десятилетие в двадцать седьмом году отметили? Я что-то не припомню.
– Троцкого из страны выставили, – напомнил генерал.
– Слушай – точно. А если знать, что за три года до этого Ленин преставился, – вслух рассуждал Александр Александрович, – то в нынешнем году кто-нибудь наверху должен копыта отбросить… Десять лет со смерти прежнего вождя. Юбилей, как-никак…
Оба недобро рассмеялись.
– А ещё к тридцать седьмому году из лагерей и тюрем будут возвращаться те, кто сел на большие сроки в конце двадцатых и уже в начале тридцатых, – продолжал развивать свою мысль генерал.
– И то правда, – согласился бывший капитан, – по закону о колосках опять же срока как раз истекать начнут. Статья как раз от пяти до десяти лет предусматривает… Есть о чём подумать… Хотя, как говорится, поживём – увидим…
Сама отстранённость от строительства нового мира позволяла им рассуждать таким особым образом. Они, действительно, настроились пожить и увидеть. Определяя себе место зрителей, но никак не участников предстоящих событий. А ещё за досужими разговорами они совсем не придали значения прошлогоднему пятнадцатилетнему юбилею советской власти, отмеченному мором населения по всей стране, а не только внутри пенитенциарной системы государства. Точно сама жизнь попыталась им об этом напомнить. Беседу двух соратников прервал протяжный гудок старого колёсного парохода, который вытягивал в речной фарватер баржу, набитую людьми. Суровцев и Соткин молча наблюдали, как суда, подгоняемые течением, скользили по центру реки мимо дебаркадера пристани.
– Спецы, – со знанием дела прокомментировал Соткин, – с Алтая, наверное. Кого они ещё там раскулачивают? Хотя в Сибири каждый второй мужик за кулака сойдёт.
В Томске и на томском севере спецами в тридцатые годы стали называть спецпереселенцев – раскулаченных крестьян и ссыльных из других областей. Вместе с понятием «спецпереселенцы» в обиход вошло и понятие «спецкомендатура». Не хватит никакого красноречия, чтобы описать тяготы, ожидающие этих людей в суровых условиях Сибири. Но и сама переброска и прибытие на место назначения были ужасны.
Так весной прошлого, тридцать третьего года в томской пересыльной тюрьме скопилось до двадцати пяти тысяч человек, высланных из всех городов СССР в результате «мероприятий по паспортизации». Многие из них были больны, истощены, плохо одеты. Если Томск был не готов к приёму такого количества переселенцев, что говорить о почти безлюдном томском севере?! Более шести тысяч этих беспаспортных людей в середине мая того же года оказались высажены с барж на остров Назино в среднем течении Оби. К ним добавили не менее пятисот человек, собранных по пути следования каравана.
Остров находился напротив таёжного посёлка и пристани с таким же названием. Обманутые жаркой солнечной погодой, опьянённые свободой передвижения мужчины и женщины разбрелись по суше, покрытой редкой растительностью. Чтобы встретить утро следующего дня под снегопадом, устелившим тридцатисантиметровым снежным ковром пространство, окружённое потоками ледяной воды. Ударивший следом мороз и неутихающий, пронзительный обской ветер, вместе с голодом, беспощадно и неотвратимо принялись за уничтожение несчастных, у которых не оказалось не то что лопат, пил и топоров для сооружения хоть какого-то укрытия – не было ни чашки, ни ложки, чтобы есть. Как не было и самой пищи. Те, кто был схвачен в частях страны с тёплым климатом, в условиях Сибири оказались к тому же полураздетыми. Под почти непрекращающимися целый месяц дождями…
Это тот самый случай, когда понимаешь: должна быть какая-то мера в описании ужаса. Когда не знаешь, что с ним, ужасом, делать… Сохранилось письмо к Сталину инструктора-пропагандиста Нарымского окружкома ВКП(б) В.А. Величко. И вот что скрывалось под грифом «совершенно секретно» более шестидесяти лет: «Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели её. При этом огромная часть их просто съедала муку (так как она была в порошке): падали и задыхались от удушья».
«Банды терроризировали людей ещё в баржах, отбирая… хлеб, одежду, избивая и убивая людей…На острове открылась настоящая охота… за людьми, у которых были деньги или золотые зубы и коронки. Владелец их исчезал очень быстро, а затем могильщики стали зарывать людей с развороченными ртами».
«Найдено 70 трупов, среди которых были обнаружены 5 трупов с вырезанными мягкими частями тела, из них с вынутыми и не найденными человеческой печенью и сердцем, лёгкими… 21 мая 1933 г. к медпункту были доставлены самими уголовными 3 человека с человеческими печенями в руках и вымазанные кровью», – сообщает акт расследования только об одном из многочисленных эпизодов трагедии.
Остаётся только добавить, что через три месяца из более шести тысяч людей, находившихся в этой партии спецов, в живых осталось две тысячи двести человек.