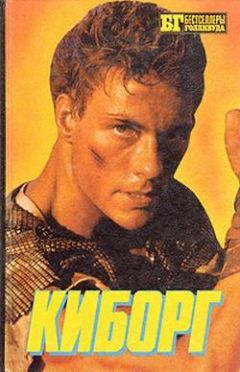Ступников Юрьевич - Всё к лучшему
В семидесяти километрах к северу от Каира я видел семью из семи человек, живущих в одном доме. Четыре сына работали. Две коровы давали молоко на продажу. Но дома оставляли в день только чашку – для младенца. Хозяйка благодарила Аллаха, что у них нет газовой плиты, потому что баллон газа вновь подорожал на доллар.
– Это бы вконец нас разорило, – сказала она, прощаясь.
А между тем, отец Мухаммеда, седой и степенный, затянул кальян и с уважением, двумя руками, передал мне трубку. И без того душная ночь шарахнула по голове, и звезды над Гизой поплыли прямо на потолок дома, вполне уютного, но не настолько, чтобы здесь задерживаться. Я понял, что надо обрываться. Пока голова на месте.
Таксист – копт по имени Феда, что значит «Спаситель», с маленьким крестиком-наколкой на запястье левой руки, по ночной дороге в Каир рассказал всю свою жизнь, которая уместилась бы в одно слово – «работа», а в переводе на нормальный язык я бы еще добавил «безысходная». Прощаясь, пригласил в гости. Они гостеприимны, если в них уважаешь хозяина и человека.
А как же знаменитые пирамиды, Каирский музей, храмы Луксора и танец живота?
Скажу только – я это тоже видел.
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Нет, мне, конечно, попадались люди, которые хотели продать Родину. И не продешевить. Но у них на самом деле ее и не было. Одно название. А у этого имелось и звание, и должность, и присяга серьезная, не то, что у меня.
В свое время, на втором армейском месяце, еще в учебке, я загремел, вместе с десятками других ребят под эпидемию дизентерии и, оклемавшись, болтался в больничке, в карантине. Там мне и дали военный билет с указанием даты принятой присяги. Видимо, на солдатском «очке», но с автоматом в руках.
Я и не возражал. Для меня все это формальности. Как штамп в паспорте о браке или дипломы для заполнения пустот стен об окончании каких-то институтов. Кто умеет – делает. Кто любит – живет. Кто верит – верует.
А иначе получается, как с одним нынешним высшим российским начальником: учился – куда не каждого брали. Распределился – куда не каждого посылали. Клялся – в чем не каждому доверяли. И куда все делось? Выходит, и не было.
Я только вернулся из Англии, когда кто-то привел ко мне в гости бойкого подполковника. За компанию. С удостоверением, но без формы. А чего звездить по подъездам? Привел и привел. Чая у меня на всех хватит. Но они принесли «свое»: мол, по-русски. Тоже неплохо.
– Знаешь, – сказал вдруг подполковник, наливая по второй.- Мне вот рассказали, что ты в Англии в солидной фирме работал.
– Работал.
– И в Америке?
– Тоже работал, – отодвинулся я.
– И в Израиле кого-то знаешь?
– Важно не то, кого я знаю, а кто хочет знать меня, – мне уже надоело держать рюмку двумя пальцами, и рефлекторно знобило сходить по-маленькому.
– У меня серьезное предложение, – выдохнул подполковник и вдохнул свою стекляшку, троеперстием, до последней капли. Согласно присяге. – Очень серьезное.
Он сделал озабоченное лицо, и я проникся.
– Ты в курсе, что наш регион солидный в масштабах даже всей страны, – продолжал военный. – И весь он пронизан сетями связи. Не сегодня-завтра начнется приватизация, и только тот, кто вложит приличные деньги, сможет получить контрольный пакет.
– Понимаю, но не понимаю, при чем здесь я. У меня другая профессия, далекая от бизнеса.
– И что? – удивился подполковник. – Приведешь инвестора с фунтами или долларами, можно поставить третьего, местного человека, чтоб не бросалось в глаза, а тебе – приличные комиссионные. Журналистика – вещь хорошая, но хлеб с маслом не заменит.
– Пайку с маслом, – поправил я. – И зачем кому-то на Западе нужна здешняя связь, на рублевом рынке, как бы он ни назывался? Инвестор в жизни не отобьет вложенные деньги.
– Ты не понял,- загадочно сказал подполковник, понизив голос до утробного, для интима. – В пакет войдет и обычная, и специальная связь. Подключайся и слушай. Можно иметь всю информацию, идущую и внутри, и извне региона. И личную, и государственную. Надо всего столько-то миллионов, это пока. Потом цена, безусловно, возрастет.
– Безусловно, – повторил я, подавившись третьей рюмкой.- Но это уже не совсем бизнес.
– Какая разница? – прикинулся дурочкой подполковник. Военные это умеют. – Зато есть смысл заплатить. Информация дорого стоит. Надо только слышать и видеть.
– Посмотрим, – многозначительно сказал я, соображая, что лучше: потерять лицо, выпроводив его сразу, или потенциально свободу, промолчав.
А ведь это такие, как он, когда-то учили меня Родину любить, с оттяжкой. На-лево! На-право! Ша-гом м-м-марш! И все-таки я даже не знаю, кого из моих знакомых заинтересовал бы такой проект. Меня лично на бизнес не тянет. Ферамоны не те. Особенно если он попахивает большими деньгами.
– Подумай, – настаивал он, заряженный.
– Уже,- я мысленно послал его подальше. А потом и вообще забыл. Мало ли кто проходит, беззвездный, по ушам. Не упомнишь.
Интересно, а для таких, как тот подполковник или нынешний большой российский начальник, уже при другой должности, бывает срок давности? Или власть все списывает, влезая на дерево, повыше, шарясь в кронах и мимикрируя там под челядь, ниже некуда. Им проще: невозможно поступиться принципами, которых нет…
ДВАДЦАТЬ МИНУТ
Человека отличает от животного только то, что он живет по своим понятиям о жизни, а не по ее законам выживания.
Но это лишь до тех пор, пока не касается смерти.
Я стоял перед проходной шахты в конце рабочей смены и даже не вглядывался в лица. Мне было наплевать на лица. Мне нужны были три человека, которые согласятся срочно сдать кровь.
В больнице сказали, что мать теряет сознание и помочь ей может только новое вливание плазмы. А ее нет. Вернее, есть, но только в обмен на три порции новой крови, оставленной на станции переливания. До ее закрытия оставалось чуть более часа, а где найдешь доноров в миллионном городе, да еще несколько?
И я поехал к шахте. Оттуда группами, по двое и более, выходили раскрасневшиеся после недавнего душа рабочие. Им было хорошо на воздухе и от этого нравилось жить. А в багажнике моей машины лежали только что купленные шесть бутылок водки. По две на брата…
Когда мы с шахтерами приехали на станцию переливания, оставалось еще двадцать минут до окончания рабочего дня.
– Мы не будем принимать кровь, – сказала молодая тетка в регистратуре. – Я не успею вымыть боксы до конца смены. Завтра приходите…
И никакие уговоры на нее не действовали. Я видел мнущихся шахтеров, которым уже надо бы домой, и еще – простыню, натянутую до подбородка, и острое, вытянувшееся лицо матери с закрытыми глазами.
– Иди отсюда, русского языка не понимаешь? – кричала тетка в белом халате. – Сказано же, что никого принимать сегодня не буду…
А дальше я не помню. Эта «затемненка» в глазах и в сознании накатила на несколько секунд такой жгучей ненавистью, которой я еще не знал, и пришел в себя уже почти висящим на решетке, разделяющей холл и регистратуру с бесформенным бесполым белым пятном, дергающимся от злобы и страха где-то в углу.
– Милиция, милиция, – орала она. – Покушение, помогите. Он меня, женщину, сукой обозвал. Вы будете свидетелями…
Шахтеры угрюмо смотрели в сторону. Откуда-то сверху спустилась врач и, выслушав, не вникая, все-таки забрала их с собой. Молча выписала нужную справку, и я рванул в больницу – только бы скорее…
С тех пор я стал присматриваться и понял, что женщин в этом мире гораздо меньше, чем сук.
Но вслух об этом лучше не говорить.
Точнее – и об этом тоже.
БЕГСТВО
Это была небольшая комната. Одно окно, справа и слева – по две кровати. Железные, с панцирной сеткой, накрытой казенным матрацем, белой простыней и синими одеялами. Больница. Общая палата на четверых. Я уже был здесь вчера. Пожаловался, что мы теперь как-то вдруг оказались уже в независимой Украине и я нигде не смог снять со счетов деньги – не выдают. Говорят – нельзя. А когда можно – неизвестно. Валютные операции, как и раньше, запрещены и подсудны. Троих малых, несмотря ни на что, кормить надо, и четвертый через пару месяцев на подходе, а я бегаю по знакомым с просьбой купить по любому курсу привезенные с Запада доллары и британские фунты.
Зря я ей это рассказывал.
– Тут еще и мои болячки на твою голову, – только и сказала она. И попросила вареной домашней картошки.
Я и приехал утром, с еще теплой, завернутой в полотенце кастрюлькой, огурчиками и фруктами. Но понял уже в коридоре: что-то не так.
– Деньги надо платить. Все, евреи, жметесь, – зло пырнула меня на ходу какая-то нянечка. – Ночью говно за вами убирать…
После шести лет жизни в Нью-Йорке и в Лондоне я и не знал, что нянечкам надо доплачивать в руку за уход, а врачам давать деньги отдельно. И когда мне в больнице говорили, что ей может помочь только новое вливание крови и его введут, если я принесу справку о том, что на станции переливания кто-то сдал свою, мне и в голову не приходило, бегая по городу в поисках доноров, что на самом деле с этими людьми и в этой стране все решалось иначе. Мне просто намекали – дай денег. Так они здесь разговаривают друг с другом и так живут. Одно говорят, а другое думают. И за себя. И за тебя. Додумывают. Но только важно понять – что. И все сделают. И можно не бегать.