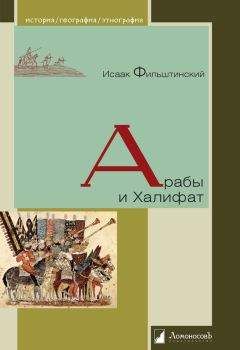Шмелёв Петрович - Сильвестр
Чем взял? А работою тяжкою взял поп, да умой своим обширным, да знанием человеческих сердец. А ещё взял хитростью, и кротостью, и щедростью своею, и состраданием к ближнему, и готовностью денно и нощно служить людям, нимало не заботясь о признании и благодарности в ответ. А ещё взял он всегдашним попечением своим о благоденствии державы Российской, и о тишине в народах её, и о вечной славе церкви Христовой. И ещё, наверное, тем, что никогда поп ничего для себя не просил — ни у царя, ни у других из сильных мира сего.
Всё вроде бы предусмотрел благовещенский протопоп. Везде соломки подстелил, всех опутал, всех прибрал к рукам: кого словом участливым, кого подарком, кому место по достоинству и заслугам его нашёл, а кого и от гнева царского заслонил, от опалы уберёг. Да добро бы только безвинных, а иной раз и по вине, кого, кабы не он, казнь ждала позорная либо монастырь. Но как ни хитёр и изворотлив был поп, как ни осторожничал он, а не оберёгся и он коварства и злобы людской. Мир велик! И нет в нём конца и краю ни добру, ни зависти человеческой, она же мать всех пороков и всякого греха.
Уже давно стал примечать Сильвестр, что избегает его дьяк Посольского приказа Иван Михайлович Висковатый, нос воротит от него. А если и доведётся где столкнуться им лицо к лицу, то и простого поклона от него не дождёшься, так и пройдёт мимо, будто и не видя перед собой никого.
Осанист и горделив был дьяк Иван Михайлович, а многие говорили — и спесив не по заслугам и достоинству своему. И послы иноземные не раз на него жаловались: коли попросишь его о встрече, раньше месяца и не примет никого, о каких бы важных делах ни шла речь. А уж про учёность свою мнил дьяк так, будто и не было на Москве никаких других книжных людей, кроме него: слова не скажет попросту, всё по Писанию, да по книгам греческим, да так витиевато, что, пока поймёшь, куда он гнёт, семь потов сойдёт.
Приметить-то поп приметил. Да то ли поленился озаботиться той неприязнью как следует, то ли просто махнул на него, дьяка, рукой по снисходительности своей: что ж, не люб он ему, значит, не люб, на всех ведь не угодишь. Не велика птица дьяк! Воротишь нос — ну, и Христос с тобой. Проживём и без тебя… Одним словом, не предпринял поп на этот раз, вопреки обычаю своему, никаких шагов, чтобы перетянуть на свою сторону того спесивого дьяка. А оказалось — зря!
Надо бы — ах, надо бы! — было ему, Сильвестру, насторожиться ещё тогда, два года назад, когда впервые случилась у них с дьяком размолвка в день торжественного молебна по случаю завершения новой росписи собора Благовещения в Кремле. И не только всю роспись обновили тогда в соборе под его, Сильвестра, наблюдением, но и водрузили недалеко от царского места дивной красоты икону Божьей Матери с младенцем Христом. А написали ту икону по просьбе Сильвестра двое псковских мастеров, отец и сын, давние знакомцы его. И вот из-за этой-то иконы и вышел у него с дьяком Иваном Михайловичем спор.
— То не икона, отец Сильвестр, — сказал тогда, хмурясь и не глядя на него, дьяк. — То парсуна, сиречь изделие светское,[55] а не Божественное. И не место ей здесь… Беса тешишь, святой отец! Плоть человеческую разжигаешь… Один лишь соблазн пастве твоей от неё. А на тебе грех!
— Да что с тобой, Иван Михайлович? Али с утра не с той ноги встал? Перекрестись! Где ты видишь соблазн? Не соблазн — одна лишь любовь материнская к миру сему заблудшему… К человекам страждущим, вечной правды взыскующим…
— Не по-нашему написано, отец Сильвестр! То не древлее наше православное письмо. То католическое ухищрение! Видел я такие парсуны у иноземных послов… Тьфу, изыди, Сатана! Один разврат, да девки голые, да младенцы толстомясые. Не Дух святой, а одна лишь плоть греховная в них… И не смирение то пред Богом, а мятеж!
— Строг ты больно, Иван Михайлович… Строг, дьяче, и несправедлив… Богомазы те, что исполнили свою икону, — святого жития люди. Оба молчальники, оба монахи Печерского монастыря… А письмо их не иноземное! Оно наше письмо. От Андрея Рублёва преподобного идущее, да от Феофана Грека, да от Дионисия великого…
— Пустое говоришь, святой отец! Знаю я, у кого учились они. Не у них… У Перуджино они учились![56] Есть такой нечестивец в Италийской земле, растлитель и развратитель душ человеческих. Меня не проведёшь!.. А те, кто расписывал у тебя стены соборные, те учились у другого нечестивца — у Чимабуя,[57] такого же еретика и богохульника, что и он. Не веришь мне — спроси у императорского посла! То-то радости ты ему, поганому еретику, доставил… Коли не по умыслу, так по недогляду своему…
— А на стенах что не по тебе, дьяче?
— А всё не по мне! Всё не по-нашему написано… Вон видишь Христос Спаситель у тебя стоит? А рядом с ним кто? Девка развратная, да ещё пляшет, да ещё бёдрами виляет… Когда ж такое было у нас на Руси? И то, по-твоему, тоже не соблазн?
— Опомнись, Иван! Протри глаза! Али ты с похмелья? Ну, так похмелись прежде, чем в такие дела встревать… Какая же это девка? Это лжепророк!
— А я говорю — девка!
— А я тебе говорю — лжепророк! И Христос вышней силою Своею изгоняет бесов из него! А его крутит, корёжит, распирает! И хитон его в тягость ему…
— А я говорю тебе — девка, поп! И пляшет она, чтобы Господа нашего соблазнить…
Ну, повздорили тогда — и ладно! И забыл отец Сильвестр о споре том нелепом, да и дьяк больше не напоминал ему о нём. Правда, как-то приходила потом большою толпою чернь московская к дверям Благовещения. Кто и вовсе пьяный, а кто и так просто, охотники пошуметь, да побуянить, да людей попугать — одним словом, голь перекатная, босяки… Приходили, кричали, что в Благовещенье ересь чёрная свила себе гнездо и надо-де их, еретиков тех ведомых, всех побить, а иконы их развратные спалить. Но дальше паперти соборной не пустила их тогда стража дворцовая. А потом и вовсе разогнала взашей, чтоб не случилось какой досады государю, с малых лет своих пугавшемуся всякого шума народного пуще огня… То ли сами те люди приходили, то ли науськал их кто-надо было бы, конечно, ещё тогда узнать. Да всё было ему, Сильвестру, недосуг.
И ещё по одному случаю надо было бы много раньше насторожиться ему. Поселился рядом с ним у Зачатия новый сосед, подьячий из Разрядного приказа, тихий такой человек, незаметный: всегда как завидит его, так непременно под благословение подойдёт, и к ручке приложится, и о здоровье осведомится, и о жене спросит, и о домочадцах его, и о ценах на муку и на овёс поговорит, и о других разных житейских делах… А только почему-то ни разу не видел его поп в Разрядном приказе, а вот в Разбойном — видел. Видеть-то видел, а справиться, зачем он там, тоже как-то ни разу в голову не пришло. И тоже, как оказалось, зря.
— Что за дела такие важные, отче, у тебя со стряпчим нашим, с Матюшей Башкиным?[58]-как бы между прочим полюбопытствовал у него не так давно царь, когда они, по обыкновению, сидели с ним вдвоём в Верху, в государевой опочивальне, беседуя о разных делах. — И старец Артемий,[59] бывший игумен Троицкий, сказывают, как пришёл с Белоозера на Москву, так от тебя и не вылазит. Ни к кому не ходит, и у меня ни разу не бывал, а у тебя чуть не каждый день…
— Дела всё больше Божественные, великий государь, — отвечал ему поп, всё ещё не чуя в беспечности своей никакого подвоха себе.
— Новую веру, сказывают, ищете?
— Вера у нас у всех, государь, одна — христианская. А вот рассуждает о Боге всяк человек по-своему… Бог един! Но для тебя у Него свой лик, а для меня другой. А кто и вовсе всю жизнь в потёмках блуждает, ищет Его, а найти не может. И оттого тоскует человек, и ропщет, и молит Его о знамении, а ближних своих — о помощи себе. Не вижу я в том греха, государь!
— Не видишь, отче?
— Не вижу, государь. Лишь бы душа стремилась к Богу истинному, лишь бы слушал человек совесть свою, а Божество рано или поздно откроется ему. Пытлив ум человеческий, и вечно стремление его к правде. И не избежать никому из нас заблуждений, и тоски, и страданий на пути к ней… Матюша вон сомневается в жизни нашей загробной, говорит: «А что то царство Небесное, а что то второе пришествие, а что то воскресение мёртвых? Ничего такого и нет! Умер ин, то умер, по то место и был…». И он ведь не один такой…
— Ну, а ты что?
— А я утешаю его, государь! И по Священному писанию ему объясняю, и по разуму человеческому наставляю, и о деяниях, о великих чудесах святых апостолов и чудотворцев ему толкую… Больно видеть мне страдания его душевные, государь! Чист он и разумом, и сердцем своим, как дитя, и искренен в блужданиях своих. И то великий грех будет мне, пастырю недостойному, коли не приду я на помощь ему и другим, таким же, как и он…
— А ну-ка он прав, святой отец? Матвей тот Башкин? А ну-ка и вправду так: «Умер ин, то умер, по место и был»?
— Нет, государь, не прав! Не может того быти… Коли нет жизни за порогом земным, то и вообще ничего нет. И нет во Вселенной тогда ни смысла, ни стройности, ни закона Божьего. А есть лишь один хаос, да произвол человеческий, да могильный мрак…