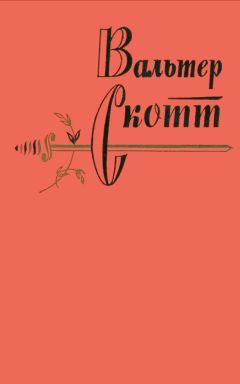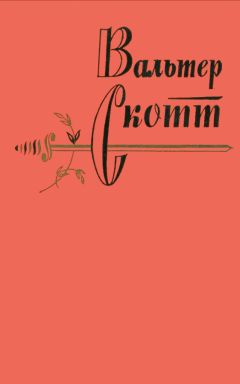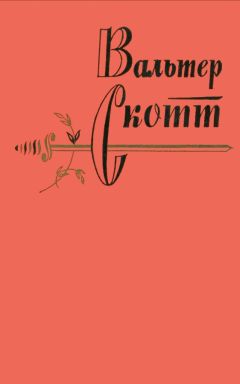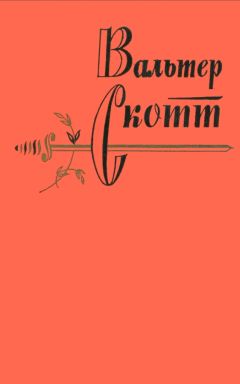Вальтер Скотт - Карл Смелый
— Тогда, — повторил оруженосец, — тогда мы, как настоящие вольные витязи, начнем шарить в английских сундуках.
— И как ловкие охотники, — прибавил Гагенбах, — выцедим кровь из этих швейцарцев.
— Они, конечно, постоят за себя, — заметил Килиан. — Ими предводительствует Донергугель, о котором мы слыхали и который прозван Бернским медведем. Они будут отчаянно защищаться.
— Тем лучше, приятель, неужели ты охотнее станешь резать овец, чем травить волков? Притом же дело решено и с нами будет весь гарнизон. Стыдись, Килиан, ты никогда еще не показывал такой робости!
— Да и теперь я нисколько не боюсь, — сказал Килиан. — Но эти швейцарские бердыши и двоеручные мечи — не детские игрушки. И если вы для этого нападения употребите весь гарнизон, то кто будет охранять прочие ворота и городские стены?
— Затвори ворота, — продолжал губернатор, — и принеси сюда ключи. Не выпускать никого из города до окончания дела. Прикажи гражданам вооружиться для защиты стен и подтверди им, чтобы они хорошо исполняли свою обязанность; в противном случае я наложу на них пеню, которую уж сумею взыскать.
— Это вызовет ропот, — сказал Килиан. — Они говорят, что хотя город и отдан герцогу в залог, но что жители, не будучи его подданными, не обязаны нести никакой воинской службы.
— Врут они, подлые трусы! — вскричал Гагенбах. — Если я до сих пор не обращался к ним, то единственно потому, что презираю их помощь; да и теперь я бы их не потребовал, если бы приходилось делать что-нибудь поважнее, а не стоять на часах и смотреть в оба глаза. Пусть они повинуются, если ценят во что-нибудь самих себя, свою собственность и свои семейства.
Раздавшийся позади его громкий голос выразительно произнес следующие слова из Священного Писания:
— Я видел злого, процветающего в своем могуществе подобно лавру; но когда возвратился, то он уж не существовал — так я искал и не нашел его.
Арчибальд фон Гагенбах сердито обернулся и встретил мрачный, укоряющий взгляд каноника Св. Павла в облачении своего сана.
— Мы озабочены делами, отец мой, — сказал Гагенбах, — и в другой раз выслушаем ваши наставления.
— Я пришел сюда по вашему приказу, господин комендант, — отвечал ему каноник, — и не стал бы говорить наставлений, которые, вероятно, не принесут никакой пользы.
— А! так извините меня, почтенный отец, — сказал Гагенбах. — Я действительно посылал за вами для испрошения молитв ваших и покровительства у Святой Девы и у Св. Павла по одному делу, которое, вероятно, случится сегодня утром и в котором мы будем иметь поживу.
— Господин комендант, надеюсь, что вы не забыли свойств наших святых до такой степени, чтобы испрашивать их благословения на дела, столь часто производимые вами со времени вашего к нам прибытия, что уже само по себе должно считать гневом Божиим. Позвольте еще прибавить, что хотя бы из уважения к приличиям вам не следовало предлагать служителю алтаря молиться за успех грабежа и разбоя.
— Понимаю вас, отец мой, — сказал хищный военачальник, — и тотчас вам это докажу. Как подданный герцога, вы должны молиться об успехе всех его предприятий, основанных на справедливости. Мы ищем содействия святых в таком деле, которое несколько уклоняется с прямой стези и характер которого, если вам угодно, несколько двусмыслен, но неужели вы полагаете, что мы станем утруждать их и вас без должного за это удовлетворения. Конечно, нет. Я торжественно обязуюсь, если мне посчастливится в нынешнее утро принести в дар Св. Павлу покров на алтарь и серебряную чашу, величиной смотря по добыче. Богородице же кусок атласу на ризу и жемчужное ожерелье для праздников, а вам, преподобный отец, двадцать английских золотых монет в награду за молитвы ваши, так как мы считаем себя недостойными прибегать к ним лично своей грешной особой. Теперь, господин каноник, понимаем ли мы друг друга, так как мне нельзя больше терять времени? Я знаю, что вы обо мне очень невыгодного мнения; но вы видите, что черт не так еще страшен, как его изображают.
— Понимаем ли мы друг друга? — повторил каноник. — Увы! нет, и я очень опасаюсь, что этому никогда не бывать. Разве вы не слыхали слов, сказанных святым отшельником Берхтольдом Офрингеном неумолимой королеве Агнессе, которая с такой ужасной жестокостью наказала за убийство отца своего, императора Альберта?
— Нет, — возразил Гагенбах, — я никогда не читал ни летописей императоров, ни преданий отшельников, а потому, господин каноник, если предложение мое вам не нравится, то не станем терять слов. Я не привык навязываться с моими подарками и упрашивать господ духовных, чтобы они их приняли.
— Внемли, однако ж, словам этого святого мужа, — сказал каноник. — Наступит время, и может быть скоро, когда ты охотно пожелаешь слушать то, что теперь с пренебрежением отвергаешь.
— Так говори, но только поскорее, — сказал Арчибальд, — и помни, что хотя ты и можешь стращать простой народ, но что ты теперь говоришь с человеком, которого не в состоянии поколебать все твое красноречие.
— Знай же, — сказал каноник, — что Агнесса, дочь умерщвленного Альберта, пролив реки крови в отмщение за его убийство, наконец основала Кенигсфельдское аббатство и, чтобы придать ему более славы и святости, сама отправилась в часовню одного благочестивого отшельника с просьбой, чтобы он удостоил поселиться в ее монастыре. Но каков был ответ его? — запомни и трепещи. — Прочь, нечестивая жена! — сказал святой муж. — Бог не хочет, чтобы ему служили обагрившие руки свои кровью, и отвергает дары, приобретенные грабежом и насилием. Всевышний любит милосердие, правосудие и человеколюбие и только имеющим эти добродетели позволяет себе поклоняться. — Ты, Арчибальд фон Гагенбах, много раз был предостерегаем. Теперь приговор твой уже произнесен, и ты скоро должен ожидать исполнения его.
Сказав грозным голосом эти слова, каноник церкви Св. Павла повернулся и пошел от коменданта, первым побуждением которого было приказать его задержать; но вспомнив важные последствия, могущие произойти от насилия, причиненного духовной особе, он дал ему благополучно удалиться, чувствуя, что удовлетворять свое мщение было бы для него очень опасно ввиду всенародной к нему ненависти. Затем он спросил себе бургундского вина, которым запил свою досаду, и как раз в то время, как он отдавал Килиану бокал, осушенный им до дна, часовой на башне затрубил в рог, возвещая этим приближение иностранцев к городским воротам.
ГЛАВА XIV
Нет, я не соглашусь с этим ужасным условием, пока обоих нас не подвергнут пытке…
— Этот рог что-то очень слабо протрубил, — сказал Гагенбах, поднимаясь на вал, с которого видно было происходящее за воротами. — Кто там приближается, Килиан?
— Два человека с лошаком, ваше превосходительство, и, как мне кажется, купцы.
— Купцы? В своем ли ты уме? Вероятно, ты хотел сказать — погонщики. Слыхано ли, чтобы английские купцы ходили пешком с таким малым багажом, который помещается на одном лошаке? Это какие-нибудь нищие цыгане или те люди, которых французы называют шотландцами. Бездельники! Я их поморю здесь голодом за то, что у них тощие кошельки.
— Не спешите так заключать, ваша светлость, — возразил Килиан, — маленькие тюки могут вмещать в себя дорогие вещи. Но богаты они или бедны, во всяком случае, это те самые люди, по крайней мере, судя по приметам, — старший из них стройный мужчина со смуглым лицом, лет пятидесяти пяти, с проседью в бороде; младший — двадцати двух или двадцати трех лет, ростом выше первого, красивой наружности, без бороды, со светло-русыми усами.
— Впустить их, — сказал Гагенбах, повернувшись, чтобы сойти с вала, — и отвести их в таможенную камеру для дознания.
Отдав этот приказ, он сам тотчас отправился в назначенное им место. Это была комната, устроенная в огромной башне при восточных воротах, где находились клещи и другие орудия пытки, которыми жестокий Гагенбах мучил пленников, вымогая от них добычу или какие-нибудь сведения. Он вошел в эту слабо освещенную комнату, имеющую высокий, готический потолок с прикрепленными к нему веревками и петлями, представлявшими страшное зрелище, с различными орудиями пытки из заржавленного железа, висящими вокруг по стенам или разбросанными по полу.
Слабый луч света, проникающий сквозь одну из многочисленных бойниц, пробитых в стенах, упадал прямо на высокого смуглого человека, сидящего в самом темном углу этого страшного вертепа. Черты лица его были правильны и даже красивы, но в высшей степени суровы. На этом человеке было красное платье, а вокруг плешивой головы его вились густые, черные кудри, уже начинавшие седеть. Он чистил и точил широкий двоеручный меч совсем особенного рода и гораздо короче тех, которые, как мы уже говорили, употребляли швейцарцы. Он так прилежно занимался своим делом, что вздрогнул от испуга, когда вдруг со скрипом отворилась тяжелая дверь; меч выпал у него из рук и с сильным шумом упал на каменный пол.