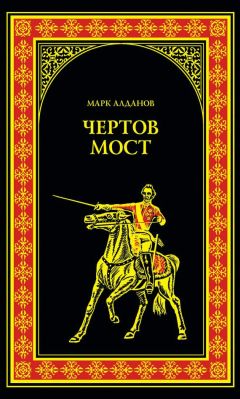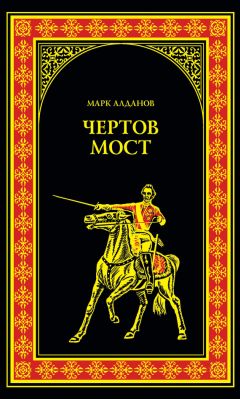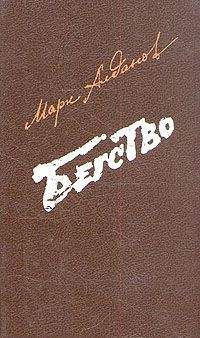Станислав Федотов - Возвращение Амура
– А ну, сынки, поддай в четыре руки, – приказал хозяин.
На лавке под окном стояло деревянное корыто с запаренными вениками. Зятья выхватили по одному в каждую руку, встряхнули так, что горячие брызги осыпали парную, и полезли наверх, к тестю, бело-розовой глыбой горбившемуся на дымящемся полке.
Анри с замиранием сердца следил, как они усердно охлестывали, потом нежно оглаживали вениками и снова от всей души полосовали гибкими ветками быстро красневшее тело Никиты Федоровича. Ему было страшно подвергнуться такому истязанию, и в то же время в душе нарастало восхищение этим толстоватым русским купцом, который кряхтел и охал под хлесткими ударами и все-таки требовал «поддать жару» еще и еще.
Когда «экзекуция» закончилась и зятья под руки свели своего «отца родного» вниз, Никита Федорович оттолкнул их и поманил гостя за собой. Они вышли в просторный предбанник, где посреди большого стола возвышался дымящий легким парком самовар, а вокруг него толпились плошки с разными яствами и бутылки с разноцветными напитками. Анри думал, что они сейчас сядут пить и закусывать, чего ему вовсе не хотелось, но хозяин распахнул дверь на улицу и, окутанный густыми клубами пара, вышел на чистый снег.
Баня стояла на берегу небольшого лесного озерца, которое сейчас, естественно, замерзло и покрылось толстым слоем чистого снега, но в снегу была расчищена дорожка, ведущая к широкой и длинной – метров десять – проруби. Дорожка оканчивалась деревянной лесенкой, уходящей в темную воду, покрытую тонкой корочкой льда.
Выглядывая из двери предбанника и поеживаясь от приятного холода, текущего вдоль ног с улицы, Анри с тихим ужасом увидел, как Никита Федорович, скользя босыми ногами по наклонной дорожке, сбежал к проруби и бултыхнулся в воду. Во все стороны полетели искристые осколки льдинок, разбежавшиеся волны оплеснули ледяные берега, бледно-зеленая масса, напомнившая виденного однажды кальмара, двинулась под водой к дальнему концу проруби.
Никита Федорович вынырнул с шумом-плеском, ухнул и поплыл обратно вразмашку, высоко вскидывая руки и молотя по воде ногами. Выбрался по лесенке на лед, помахал руками, несколько раз присел и поспешил к бане, ступая по краю дорожки, где было не так скользко.
Мимо Анри вывалились на улицу распаренные зятья и один за другим тоже ринулись к проруби.
– Ух-х, здорово! – широко улыбаясь, произнес Никита Федорович и подмигнул Анри. – Ну, как, гостенек, рискнете али слабо?
Анри взглянул поверх его еще дымящей паром головы на большущий рубленый дом – главное жилище заимки, – стоявший неподалеку на взгорке, и увидел на балконе второго этажа три женские фигурки в цветных полушубках – сестры Мясниковы в ожидании своей очереди баниться любовались купанием мужчин. Им овладело озорство и мальчишеское желание предстать перед Анастасией не хуже сибиряков.
– А кто будет меня стегать? – спросил он.
– Как кто? – удивился Никита Федорович. – Конечно, я.
– Ну, тогда, как у вас говорят, – была не была?
– Была не была! – захохотал хозяин и потащил гостя в парную.
5Анри опять лежал на широкой деревянной кровати в отведенной ему комнате на втором этаже, утопая в пуховой перине, и наслаждался тишиной и покоем. В большое окно с крестовым переплетом, делившим проем на шесть прямоугольников, закрытых разноцветными стеклами – не витраж, но все-таки приятное глазу разнообразие, – сеяла неяркий свет воцарившаяся на звездном небе круглая луна. Цветные угловатые пятна лежали на светлой портьере, прикрывавшей умывальный уголок при входе, на рукотканых половиках, разбежавшихся от двери по всей комнате, – по ним славно ступать босыми ногами! Было так тихо, что хорошо слышался скрип снега под лапами собак, бегавших по двору, – их выпускали ночью охранять от волков хозяйственный двор с овцами, коровами, лошадьми. Умные стражи понапрасну не лаяли и возни не устраивали.
И снова Анри не спалось. Его все еще не отпускали впечатления прошедшего дня – они были столь ярки, что даже сейчас, спустя несколько часов, он чувствовал под сердцем острые иголочки удовольствия от их экзотичности. Помнится, такое же радостное чувство он испытал, когда плыл на паруснике через Средиземное море, направляясь к месту службы в Алжир. Из кубрика, где разместился его взвод, он вышел на палубу и увидел огромный багряный шар, стоявший точно на линии, разделяющей море и небо. От борта к солнцу по легкой ряби волн убегала золотая дорога, а над этой дорогой черными полумесяцами взлетали и тут же исчезали в кипени золота, чтобы через мгновение взлететь снова, неугомонные дельфины. Ему тогда захотелось петь и смеяться – просто так, от избытка красоты и радости.
Анри блаженно потянулся, вспомнив, какими глазами посмотрела на него Анастасия, когда он, прошедший огонь от веников в руках Никиты Федоровича, ледяные воды проруби и медные трубы восторга сибиряков отчаянностью француза, возвращаясь из бани, встретился со всей женской частью семейства, направлявшейся на смену мужчинам. В глазах Насти сияла восхищенная влюбленность; он сразу понял, что она видела его обнаженного, мускулистого, когда, выскочив из парной, он кубарем прокатился по сугробам до проруби, нырнул, поплескался и потом гордо шагал обратно, донельзя довольный собой. С пылу-жару он тогда совершенно забыл о том, что его могут видеть чьи-то нескромные глаза. А когда вспомнил, мысленно махнул рукой: ну и пусть смотрят – ему как мужчине стесняться нечего.
В предбаннике они выпили по чарке кедровой настойки, вкусом и цветом напоминавшей хорошо выдержанный коньяк, закусили необыкновенно вкусными пирогами с осетровой вязигой, а вернувшись в дом, где на первом этаже, в большом зале, был накрыт стол для обеда, приступили к основательной трапезе, в которой чего только не было – начиная от остро пахнущей соленой черемши и тушеного папоротника с мясом и грибами до кабанятины с черносливом под винным соусом. А до чего была вкусна хрусткая квашеная капуста с белесой от морозности клюквой! А малосольные – это в конце-то зимы! – крепенькие огурчики, а соленые грузди и рыжики под стаканчик водки, такой холодной, что стекло на глазах покрывается налетом изморози… Деревянная миска с белой нельмовой от души наперченной строганиной соседствовала с хрустальной салатницей, полной черной рассыпчатой икры, в которую была попросту воткнута серебряная ложка – ешь не хочу! А уж когда прислуживающий за столом юркий паренек Васятка внес блюдо с горой дымящихся пельменей, от которых сразу же пошел одуряющий запах, и в рот, уже уставший принимать разносолы и вкуснятины, вмиг набежала вязкая слюна, Никита Федорович поднялся во весь свой немалый рост и взял в руки большой серебряный ковш с двумя ручками. Васятка тут же наполнил его из бочонка желтоватой жидкостью.
– Господин Легран, – торжественно начал он, – голубчик вы наш, гость дорогой. Мы знаем, что европейцы – народ хлипкий, к морозу и жаре малостойкий, вы же показали себя более чем достойно, а потому я предлагаю выпить с нами самогона-первача и побрататься с сибиряками. Потому этот старинный ковш и зовется братиной. Нас здесь четверо – за каждого по глотку, ну и братский поцелуй в придачу. Как, не побрезгаете? – И протянул ковш через стол.
– Почту за честь. – Анри встал и принял тяжелую братину, ощутив пальцами резной рисунок по серебру.
В нос ему ударил аромат разнотравья, в котором совершенно потерялась легкая дымка алкоголя. Анри уже доводилось пробовать русский самогон, и тот ему не понравился своим сивушным амбре. Не вызывал удовольствия и свой, отечественный кальвадос – тоже самогон, только яблочный, который с легкой руки крестьян Кальвадоса гонят теперь по всей Франции. Этот же «первач», как назвал напиток Никита Федорович, прямо-таки колдовски заманивал хлебнуть полным ртом. Хотя Анри предполагал, что крепость его может превзойти все ожидания.
Тем не менее он хлебнул. И тут же понял, что останавливаться нельзя, иначе на второй и последующие глотки просто не хватит мужества, и довел процедуру до конца – со всеми объятиями и поцелуями. Братаясь с хозяином, Анри почувствовал, что ноги его стали вдруг ватными и подкосились. Никита Федорович, держа гостя аккуратно под мышки, усадил его на стул и почти насильно заставил проглотить несколько горячих пельменей с уксусом.
– Ничего, ничего, голубчик, сей момент все образуется. Головка прояснится, и слабость уйдет. Это с непривычки, это ненадолго… – приговаривал он, подцепляя вилкой очередной пельмень и отправляя его в рот гостя. Заметив струйку сока, стекшую тому на подбородок, Никита Федорович самолично промокнул ее крахмальной салфеткой.
Анри уклонялся, бормотал извинения, ему хотелось сползти на пол, стать на четвереньки и хотя бы таким образом добраться до дивана или кровати, чтобы провалиться в спасительный сон, но это, как он понимал краем сознания, ему вряд ли удастся. И не потому, что не пустит хлебосольный хозяин, названый «брат», а просто – не хватит сил.