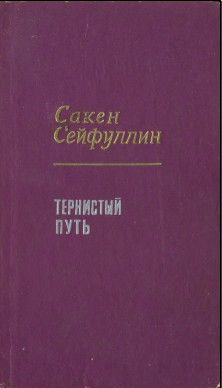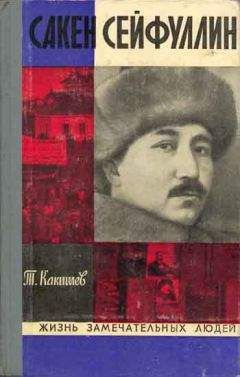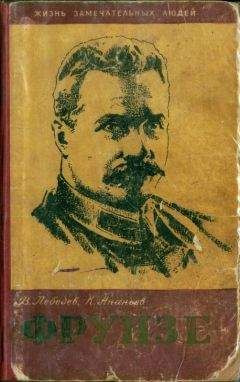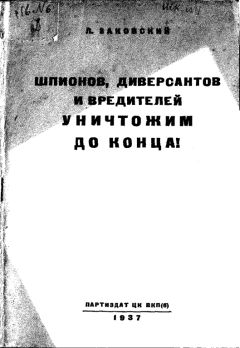Александр Филимонов - Приди и помоги. Мстислав Удалой
Пелагея посмотрела на Олексу отрешенным взглядом и не впервые уже без всякого чувства подумала: хорошо бы, его Бог прибрал прямо сейчас, во сне. Сразу бы и отмучился сыночек, и можно было бы неторопливо и основательно думать о собственной смерти — когда она придет и какая будет. Тут Олекса вздрогнул и несколько раз, не просыпаясь, жалобно всхлипнул — словно почувствовав, о чем мама думает. Пелагея сразу очнулась. Надо гнать прочь такие думы, а то это до добра не доведет. Лучше всего занять ум привычным делом: поисками пропитания хотя бы на сегодня. Ничего другого не остается, как оставить Олексу дома одного и идти на городище, к княжескому двору. Может, и сжалится кто над ней, кинет кусочек. Им с Олексой и не надо много-то, они уж привыкли обходиться малым. А если никто ничего не даст — то наверняка попадется куча свежего конского навоза. В ней можно наковырять много овсяных зернышек — они вкусные, солоноватые и легко жуются. На княжеских конюшнях коням дают овес добрый.
А дома сидеть, ничего не делая, — так и пропадешь, Пелагея, как всегда, решившись на что-то, почувствовала себя лучше. Пора было собираться. А собраться было недолго: все, что у нее имелось из одежды — все на ней. Олексу поудобнее уложить, чтобы подольше не просыпался. Да заткнуть дымовое окошко: угар, наверное, уже вытянуло, а тепло надо беречь.
Целое событие теперь было — вставить затычку в окошечную дыру под потолком. Обрубок дерева, обмотанный для плотности рогожей, стал такой тяжелый, а ведь надо было еще и на лавку встать, чтобы дотянуться до дыры. Ни в руках, ни в ногах сил не оставалось. Первым делом затычку на лавку положить. Потом самой на лавку вскарабкаться. Потом по стене эту тяжелую затычку катить — через бревнышко к бревнышку. Была бы стена гладкая, плахами обшитая — труднее было бы Пелагее. Скользило бы.
Пока возилась с затычкой, не сразу расслышала: по двору к ее избушке кто-то идет. И похоже, не один. Мужские голоса переговариваются, а о чем — не разобрать. Бросив тяжелый обрубок на пол, Пелагея поспешила слезть с лавки — нехорошее будет, если увидят ее так. Но нога неловко подвернулась, и она ничком свалилась на утоптанный земляной пол как раз в тот миг, когда в дверь постучали. Она попыталась подняться и не в силах была ответить, когда дверь открылась без приглашения.
Вошли трое мужчин и остановились у порога, глядя, как хозяйка копошится на полу возле лавки.
— Здорово, Пелагея, — сказал один из вошедших. Голос его показался ей знакомым, и она с трудом подняла голову. Вгляделась, превозмогая стыд от того, что оказалась при чужих мужиках в таком положении. Стыд неожиданно придал Пелагее силы, и она сразу поднялась на ноги, успев даже мимолетно удивиться про себя такому проворству.
Один из тех, кто стоял перед ней, был Матвей Обрядич, староста их Волосовой улицы — сухой и прямой как палка старик с длинной желтоватой бородой. Второго Пелагея не узнала, хотя, кажется, видела где-то. А третий был явно нездешний, не русский даже, чем-то походил он на Пелагеиных давних соплеменников-чудинов. И дело здесь было не в одежде, украшенной бусами, поверх которых лежало ожерелье из длинных медвежьих когтей, а в выражении лица, и прежде всего — глаз. Такое лицо и такие глаза могли быть только у человека лесного, вольного, не тронутого вечной русской озабоченностью. Такими же — беспечными, словно лесные звери, всегда готовыми и к радости и к смерти — были ее, Пелагеины, соплеменники. И она тогда звалась по-другому. Сейчас и не упомнишь как. Вид этого чужеземца непонятно почему взволновал Пелагею настолько, что она даже не ответила на приветствие старосты поначалу. Спохватившись, поклонилась им всем:
— Здравствуйте, люди добрые. Проходите в дом. Хозяина моего нет нынче, да и угостить вас нечем. Не обессудьте.
Сказалось легко и плавно, совсем как в старые времена. Тогда было чем гостей угощать. Пелагея думала, что уже забыла слова простого гостеприимства. Вот — вспомнилось.
— Знаем, хозяйка, все знаем, — сказал староста Матвей Обрядич, когда все трое уселись на лавке у стены. — И про горе твое знаем, и что живешь одна, что угощать нечем. Не ты одна, Пелагея, так сейчас живешь. От Никиты, мужа твоего, вестей не получала?
— Откуда же? Как ушел с князем, так с тех пор… — Она вдруг испуганно оглядела всех троих. — Уж не ты ли, дядя Матвей, мне про Никиту расскажешь? Где он?
— Где… Известное дело где — на Руси, с Мстиславом Мстиславичем. Ты не смотри так, не пугайся. Я не более твоего знаю. Мы по другому делу пришли.
Пелагея сразу потухла, потеряв любопытство и к делу, по которому к ней пришел староста, и к иноземцу, вначале так взволновавшему ее своим видом.
— Какое же тут дело? Видишь? Голодаем мы с сыночком. В доме ни крошки нет. Боюсь, не переживем зиму-то. Вот и все мои дела, господин староста.
— Ты погоди помирать, — перебил Пелагею Матвей Обрядич. — Я как раз за этим и пришел — помочь тебе малость. А ты что же? Земляка не признаешь разве? — Он кивнул на чужеземца, который в ответ коротко улыбнулся. — Ты сама ведь из корелов будешь?
— Нет, — помотала головой Пелагея. — Нет, не из корелов. Я русская давно, дядя Матвей.
— A-а, ну, ничего. Тут вон что получилось. Слушай-ка. Они, корелы, вроде как побратимы Новгороду. Знаешь ведь? Ну вот. А вчера они обозы с рыбой привезли — торговать. Рыба и вяленая, и соленой немного. Ну, конечно, в город не все прошли, которые возы люди князя Ярослава задержали, которые за дикую виру князю же Ярославу пошли в казну. Это дело известное. Ну, все же они, корелы-то, — Матвей опять кивнул на чужеземца, — хотели торговать маленько, чтобы в убытке совсем не остаться. А посмотрели на нашу беду — какая уж тут торговля! И решили они всю эту рыбу, что привезли-то, так отдать, вроде как в долг. На нас для порядка записать, на уличанских старост то есть. А потом время придет — рассчитаемся. Пожалели они нас, видишь.
— Да что ты, Матвей, с ней разговариваешь? — встрял второй, которого Пелагея никак не могла вспомнить. — Отдай ее долю, запиши — и пойдем, а то до ночи не управимся.
Пелагея почувствовала глухую обиду, но не стала ее выказывать: не до того было. До нее вдруг дошло, что речь идет о еде, и не просто о еде, а о той, что сейчас может оказаться у нее в руках. Она напряглась и замерла, боясь, что неосторожным взглядом, движением или словом может спугнуть неожиданную удачу.
И даже не столько пища радовала Пелагею. Она как-то сразу подумала, что если ей дадут рыбы, как обещают, то сама собой отпадет надобность в том, чтобы идти на городище и просить. Облегчение было таким огромным, что Пелагея боялась поверить в то, что такое счастье возможно. Все еще недоверчиво она смотрела, как этот второй, нетерпеливый, счетом вынимает из лыкового — таких в Новгороде она и не видела — мешка длинных сушеных рыбин, выкладывая их на столешницу. Когда очередная рыбина оказывалась на столе, Пелагея внутренне вздрагивала — боялась, что та окажется последней. Она уже прикинула: каждая такая, если есть бережно, растянется на три, а то и на четыре дня. Варить. А потом можно долго жевать и сосать хрящи и косточки, выбирая из них весь сок. Для Олексы — нежное мясо с ребрышек.
— Пятьнадесять, шестьнадесять, семьнадесять, — все считал тот, второй. — И еще, и последняя. Дванадесять штук тебе, потому как вас двое душ. Матвей, запиши ее. И вот еще, — из другого мешка, поменьше, он вынул и положил на стол две большие соленые семги. — Это по одной на душу. Запиши, Матвей, да пойдем скорее. Сколько еще домов обойти нам.
Пелагея не знала, что ей делать. Больше всего хотелось кинуться к столу, схватить еду руками, спрятать. Но она понимала, что поступок такой будет выглядеть неприлично и даже голод его не оправдает. Поэтому она чинно поклонилась гостям, проводила их до крыльца и, пока они не скрылись из виду, стояла на крыльце. Наконец вернулась в дом, где теперь упоительно пахло соленой рыбой — чуть подпорченной и от этого, наверное, еще более вкусной. Пока гости были в доме, Олекса не просыпался, но сейчас во сне, видно, почуял новый, незнакомый приторный запах и тревожно причмокивал и покряхтывал, готовясь открыть глаза.
Некоторое время спустя, после того, как Пелагея покормила его, сварив целую половину сушеной рыбины, Олекса вновь спал, и впервые за много дней спал на сытый желудок, и мать была спокойна за него. Уложив сына, она еще долго, с наслаждением и не торопясь объедала семужью голову, выгрызая хрящики и кусочки мягких тканей из самых недоступных мест на затейливых головных костях рыбы. В животе у себя Пелагея ощущала надежную тяжесть пищи, и не какого-то пищевого сора, а настоящей еды. И эта тяжесть не только сообщала телу и уму чувство сытости — она оживляла и укрепляла в душе угасшую было надежду на лучшее будущее. Рыба, свалившаяся, подобно манне небесной, на голову, обещала по меньшей мере месяц относительно спокойной и сытой жизни. А за этот месяц что-нибудь да изменится — Пелагея была уверена и даже слегка себе удивлялась: как могла раньше эту веру потерять?