Алексей Чапыгин - Гулящие люди
– Все понял – водки ему в ином месте сколь хошь из-под полы… магарыч с тебя думал вывернуть! Аль ты впервой солдат ведаешь? Чего ни делают – отпуски себе домой подделывают, начальные люди – чужеземцы, худо знают нашу грамоту, так суют к подписи… Майор сколь таких листков им подписывал – меня упрашивал глядеть, чтоб… придет, приведи ко мне, и мы его кривду правдой покроем…
– Так и понимал я… ты, Иванушко, с солдатами не ходи на стрельцов – солдат унять надо!
– Своя голова, чай, дорога? Пошто мне без рубахи в огонь лезть!
– Берегись! Ты мне годен, ой, как годен!… Дело прибыльное головой быть, но дело то мало ведомое мне, один запутаюсь, иные крадут, а ты честен – верю! Едино лишь, чтоб тягло не наложили, не равняли с посадскими…
– Это уж так! Какой дворянин в тягле живет? Прощай родовитость, коли сравняли тяглом с худородными.
– С подлым людом, черным…
– Беломестцем устроят, и будешь в своей слободе богатеть… правда только, что слободские беломестцев не любят…
– Ништо-о! Как солдат придет – приведу.
– Веди, поглядим, в какие кости обыграть хочет? Бегичев ушел, следом за ним ушел и Таисий.
Было за полдень. Сенька встал, умылся, поправил складки рубахи и на рубаху натянул панцирь. Надев кафтан, стал ходить по избе. Рог заправил, попил табаку. На столе стояла большая сткляница водки, мало початая. Таисий за работой пил немного, кружка тут же. На торели оловянной недоедены рыба и хлеб. Сеньку если что-либо тревожило, то он целыми днями ничего не ел и теперь есть и водку пить не стал. Он тревожно ждал Таисия, боясь, чтоб не убили приятеля, как сообщали утром нищие про капитанов немцев, – говор баб Сенька ясно вспомнил и думал:
«Надо к Москве, коли что, скорее… стрельцы – кои на конях, будут скоро… в бой с стрельцами не пойдем, так и Таисий мекает…»
Завозились шаги в сенях, потом в избу просунулась голова поваренка, вошел парнишка в трепаной шубейке, в лаптях на босу ногу. Поваренок сунул на стол блюдо с оладьями в меду.
За поваренком вошла домоуправительница, вошла неторопливо, степенно помолилась в угол, спросила:
– Один ту будешь, Гришенька?
– Кого же еще Аграфене Дмитриевне надо?
– Мекала и черный твой с тобой… Я посижу, а ты дар от меня покушай…
– Ужо… после поем.
– Я вот надумала вам избу топить сама… сторож худо протопляет, ишь дымом смородит. – Она фыркнула носом, втянув воздух избы. Вывернув из-под шелкового шугая пестро расшитый по краям плат, утерла лицо.
– Сторожу сподручней… тебе с хозяйством, чай, немало дела?
– Велико мое дело! Чем править? Блоху напоить да вошь подоить…
Сенька имел привычку, когда упорно думал, тогда ставил одну ногу на лавку, глядел в окно.
Теперь он встал одной ногой на скамью, упер локоть в колено, положив на руку подбородок, глядел через стол на двор, изза тына неслись отдаленные звуки набата – не то грабеж, не то пожар. На фоне слюдяных пластин в темных окончинах другого окна рисовался ясно его профиль – упрямый лоб, кудри клочьями выстрижены Таисием, окрашены рыжим. Бороду ему товарищ также убавил, была окладистая, теперь же темно-рыжая, клином.
Аграфена глядела внимательно на Сенькин профиль с горбатым носом, сказала:
– Гляжу вот, Гришенька, на тебя – и по голосу ты, а по обличью будто мой Иван Бегичев… И, и… что сделали проклятые солдаты, как с ними на кружечной ходить стал… знаю все…
– Мы с тобой, Дмитревна, чужие, едино тебе, какой я… Был бы мужем, тогда переменная рожа досадлива…
– Ух ты, пропадай все… И так долго таила. Хоша ты, Гришенька, сны мои рушил – обличье сменил, да уж и такого тебя люблю! Столь люблю, что готова аже любодейчичей[160] плодить, пущай лакиньей[161] лают…
– Я не люблю тебя, Аграфена Дмитревна, едино лишь – уважаю за порядню дома.
Она придвинулась к столу ближе:
– А не люби, да приласкай!
Сенька не успел ответить. С речки Коломенки через сад прошли двое рослых датошных.
– Несет черт гостей! Это к твоему черному, – сказала Аграфена и быстро ушла.
Сенька сел на лавку.
Солдаты вошли как хозяева, не снимая железных шапок. Один, подходя к столу, взглянув на Сеньку, сказал:
– Тот!
– Верно? Значит, ладно!
– Тут, брат, вишь, баба была – уплыла… принесла водки, оладей паровых, а мы выпьем и закусим!
– Перво допросим!
– Торопиться некуда – дело в железной шапке!…
Они были в ватных тягиляях нараспашку, под тягиляями серые кафтаны с кушаками, за кушаками у каждого по три пистолета. Сабель и мушкетов при них не было. Один сел за стол, другой на лавку с краю стола. Стали пить и есть – выпили всю водку, съели оладьи, хлеб и рыбу, тот, что за столом глубже сидел, спросил:
– Где твой черный капитан?
– А вы завсегда так?
– Как?!
– Жрете, не спрашивая хозяев?
– Это ты, что ли, хозяин?!
– Да хотя бы я!
– Ого!
– Видно, что не солдаты, а ярыги – на торгах да кабаках обыкли грабить!
– Ах ты, рыжая собака!
Сидевший за столом выволок пистолет, взвел кремневый курок, дуло направил на Сеньку.
– Не грози пистолем, ярыга, убери!
– Я те уберу! Ты убил Шмудилова?
– Сказывай!
– Кого?
– Того самого – государева слугу?
– Сказывай! Шел будто пьяной, а как я завернул…
– Убери пистоль! Нажрались, уходите.
– Мы те уйдем! Сенька встал.
– Он самой, широкоплеч, сутулой…
– Сказывай, где вор, черной капитан?!
– Дуй в ноги – скажет! А то я…
Другой тоже протянул руку к пистолету. Сенька круто прыгнул в сторону, солдат выстрелил, пуля прошлась по груди Сеньки, шлепнулась в стену. Сенька сделал прыжок к столу, ударил кулаком того, кто стрелял, сверху по железной шапке. У стрелявшего пошла из носа и ушей кровь – шапка села на глаза, пистоль, стукнув, упал.
Другой засопел, вскочив, ловил Сеньку за горло, – Сенька сунул его кулаком ниже груди, солдат присел, откинувшись на стену, съехал на пол, железная шапка, зацепив лавку, соскочила, покатилась прочь, а солдат пополз. Сенька пнул его, хрустнули кости – угодил под ребро, он взвыл и перевернулся навзничь. Стрелявший сорвал с головы шапку, шапка стукнула о стол, со стола упала кружка. Извернувшись к окну, хлюпая кровью, ломал оконницу, силился закричать «караул» – мешала кровь, голос срывался.
– Не доел еще! – крикнул Сенька.
Со звоном посуды и треском стола за воротник тягиляя выволок солдата, размахнув, кинул головой об угол печи. Остановился, слыша стон у порога, слова, похожие на бред:
– Спаси на-а-с…
Сенька шагнул, вытряхнул армяк, лежавший на лавке, на пол стукнул шестопер.
– Тебя надо!
Когда добил, кинул трупы солдат к печи, вспомнив, нагнулся– тому и другому всунул за кушак глубже их пистолеты. Подумал:
«На снег волочь, народ соберу – увидят… помешают уйти».
В избе темнело. Он смутно увидал – за печью блестит кольцо ставня в подполье.
– Так!…– Подошел, открыл окно в полу, перетащил трупы, сунул под пол, оглядел избу, нашел шапки и туда же кинул. Поискал, пригибаясь к полу, – не оставили ли солдаты из ярыг еще примет, и, кроме крови, ничего не нашел. Опрокинутый набок стол поправлять не стал, только передвинул тяжелый шаф из угла на ставень под пол. В сенях умыл лицо и руки, оделся, а когда переходил шумную, брызжущую ледяными искрами плотину мельницы, решил:
– В избу, на кладбище! Там ночую, пожду, придут… оттуда, сказал он, пойдем…
Когда поднялся на берег и его встретил ветер в лицо с колючим мелким снегом, спохватился: «Вот, черт, с возней рог забыл!»– торопливо ощупал себя, нашел за пазухой, но в рогу замерзла вода. Пошел скоро. Порошило снегом разогретую боем грудь, и спину холодил панцирь. С неба почти прямо на него сквозь белую муть мутно светил месяц.
– Не уйтить бы мимо? – Остановился мало и снова шел…
Сенька спешил, но все ему казалось, идет тихо. Шел ровно, а теперь стал спотыкаться и догадался, что попал на кладбище.
Под ноги попадались зарытые в снег могильные плиты. Увидал рощу деревьев малорослых в инее. Стал оглядывать кругом: заметил крест, потом другой и много крестов, скрытых доверху снегом. Он выбрал место повыше, начал прислушиваться и наглядывать избу, избы не увидал. Сняв шапку, пригнулся к земле – слух у Сеньки был звериный, глаза зоркие.
– Ежели пришли, то заговорят!
Долго слушал, недалеко услыхал гул, будто из могил идущий… «Ага! Тут, близ…» Вглядываясь в белесый, волнуемый ветром сумрак, заметил в балке как будто крышу избы. Пошел туда, попал на тропу, тропа запорошена снегом, но ясная, она повела его вбок и назад. По тропе пришел к дверке в снегу. Стены избы, тоже крыша были густо облеплены снегом, оттого и на малом расстоянии не видны. За дверью ему почудились голоса, и даже как будто кто на струнах тренькал, он мало устал, но, остановясь, почувствовал, как панцирь жжет холодом грудь и спину. Стукнул тяжелым кулаком в двери избы. Голоса и звуки струн смолкли. Сенька повторил удар в дверь, от его удара ветхие доски задребезжали… Теперь слышал, будто кто стоит за дверью, – услыхал дыхание скрипящее и прерывистое. Еще раз ударил Сенька, тогда за дверью голос спросил:
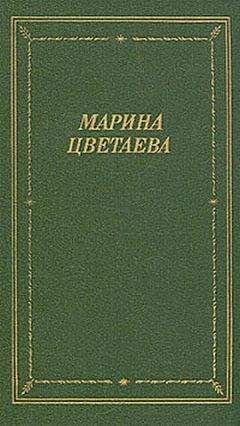

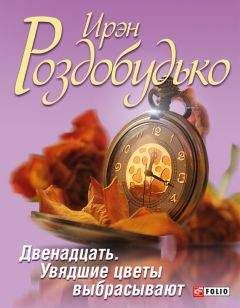
![Atlanta - Только рядом...[СИ]](/uploads/posts/books/2640/2640.jpg)