Алексей Чапыгин - Гулящие люди
– Калики идут! – копая землю, сказал один солдат. Другой пригляделся, прислушался, ответил:
– Вижу и слышу! Куда их черт несет по засекам-то? Еще стрельцам доведут… Эй, вы, пошли в обрат!
Другой перестал копать, слушал пение:
Да тихомирная милостыня
Введет в царство небесное…
– Ну?
– Чуй-ка, во што! Пущай пробредут… Увидят работу, не осмыслят, чего для робим… Хлеба на Коломне стаёт мало, и нам прибыльнее… чуешь?
– Чую, черт с ними, хлеба впрямь мало – зорена-таки Коломна.
– Не лай их, они святые!
– Ну, святые они такие – глядят востро, у гузна пестро и с хвостиком! Пущай идут.
– Можно ли, служилые люди, нам ту шествовать?! Остановились, закланялись.
– Куда приправляете, убогие?
– А на Коломенску дорогу, что-те на Москву-у!
– Вот ту, краешком проходите, не оборвитесь в яму и не пугайте, прямо идите – вон на тот лес, там и дорога…
– Сохрани вас господь!
– По душу вашу добрую за здоровье помолим-си-и! Прошли засеку, запели:
И за то господь бог на них прогневалси-и…
Положил их в напасти велики-е…
Вышли на дорогу, а как двинулись по ней верст пять– стрельцы на конях, встреча неладная и страшная. Старцы засуетились:
– Вот-то беда наша! Напасть…
– Спаси сохрани… – крестились старухи. Таисий оглянулся на них, приказал:
– Пойте! Успокоились и запели:
И за то господь бог на них прогневался-и…
Положил их в напасти великие,
Попустил на них скорби великие
И срамные позоры немерные…
– Эй, убогие! Стопчем, убредай в сторону! Нищие, увязая в снегу, побрели в сторону.
Стрельцы кое проехали, иные остановили коней, десятник стрелецкий спросил:
– Куда путь наладили?! Нищие, убредая, пели:
Злую непомерную наготу, босоту,
И бесконечную нищету,
И недостатки последние…
– Куда бредете?
– На Москву, служилые государевы люди!
– Кто ваш старшой, выйди на дорогу. Таисий вышел, подошел к лошади сбоку.
– Кормильцы, поильцы, нищеты обогревальцы! – кричали нищие.
– На Москву с округи надо по отписке от воеводы.
– Есть она у меня, старец дал! – сказал Таисий. Вынув из-за пазухи из-под кушака плат, развернул, подал бумагу. Десятник, пригнувшись на седле, бумагу принял.
– На Москву, родимый, сказывают, в Китай-город, бредем…
– Патриарх указал – в Кремль никого не пущать и в Китай, гляди, не пустят…
– Уж и не ведаем, как будем…
Десятник пробовал читать бумагу, да не справился с чтением, крикнул:
– Эй, воин в бумажной шапке, плыви сюда!
Подъехал в стрелецком, полтевском кафтане белом подьячий, увешанный у седла многим оружием:
– Чего остоялись?
– Да вот по твоей части, а я не пойму – хитро вирано – бумага от воеводы на проход убожих…
Подьячий взял бумагу, бойко пробежал по ней глазами, оглядел подписи и печать.
– Все ладно! Грамота Дворцового приказа, тот приказ, меж иных дел, ведает и нищими, а тут зри-ко: нищие «верховые богомольцы…»
– Этакая-то рвань?
– Ништо! От великого государя, коли вверху будут, одежу дадут…
Стрелецкий десятник сказал Таисию:
– Ты чего, старец, лжешь? Сказывал, бумага от воеводы! Таисий кланялся, стоял без шапки.
– А неграмотен я, служилые люди государевы, дал мне ее старец при конце живота своего, указал: «Сведи, сыне, паству мою в Китай-город…» Я завет его соблюл, солдаты грабили, да усухотил бумагу, а што в ей писано, мне темно есть!
– Грамота подлинная! – Подьячий, водя, по воздуху пальцем в перщате, нищих считал, указал на Сеньку: – То и есть скорбный языком и ушми?
– Он бедный, а вериги на себя налагает не в сызнос никому нашим… сестра его тож безъязычна!
– Десятник, надо бы им вожа дать! Нищие, оно и не все може государевы, то дьяку Ивану Степанову на деле зримо будет, только по дороге им идти не можно – пушки везут, конные едут и стороной дороги поедут, стопчут их…
– Я втолкую им, как не по дороге идти! – сказал один стрелец.
– А как?
– Да вон туда! Сперва мало лесом наискось, потом будет поле, а поле перейдут, проходная дорога падет и околом о Москву-реку…
– Вот ты гляди! Никакого им вожа не надо, убредут с песнями…
Стрельцы двинулись дальше. Подьячий передал бумагу Таисию, строго наказав:
– Паси, старец, грамоту! С ей не то в Китай-город, в Кремль пустят…
– Спасибо, господине дьяче!
Подьячий, которого назвали дьяком, довольный, отъехал. Нищие, уходя в лес, запели:
Да тихомирная милостыня
Введет в царство небесное…
Вышли из лесу, подхватила опять белая равнина без пути… Ветер налетал порывами, закрутило снег, и тот, кто шел впереди, в белом тумане провалился в балку.
Сенька Ульку взял на руки, побрел, распахивая тяжестью своей неглубокий снег чуть не до земли. За ним брели уже легко Таисий и молодые бабы.
Старики, выходя из рытвины, благодарили!
– Спасибо тебе, молодший!
На выходе из балки Улька поцеловала Сеньку в ухо, а когда от щекотки он пригнул голову к плечу, еще раз поцеловала в губы.
Старицы ворчали:
– Рушит устав, сука!
– Окажем миру укрытое скаредство наше – тогда што?
– Да, што! Богобойны люди наплюют нам и отшатнутся…
– Надобе изъять ее! – сказал старец, последним выбредая из балки. – Не перво деет так…
На ровном месте, кинув сумы полукругом, все, кроме Сеньки, Ульки и Таисия, сели отдохнуть.
Старцы окликнули Ульку:
– Подь к нам!
Таисий с Сенькой отошли вперед, но, видя отдыхающих, остановились. Старцы велели Ульке встать в середку полукруга, старики, отдыхая, молчали, другие не смели говорить раньше древних.
Таисий сказал:
– Ну, брат, ладят судить твою временную женку, должно за целование!
Сенька оглянулся:
– Пойду я, Таисий, заедино руки марать, перебью эту сволочь, как кошек!
– Мы без них попадем в Москву, да скрываться надо будет… с ними везде станем вольно ходить, все знать!
– Ночью на кладбище я не искал жену, мне дали эту девку, стала она, не ведаю на долго ли, моей… своих в обиду не допущу! Пойду…
– Остойся, чуй, у них правило – в тай чини блуд, пьянство, но кто всенародно окажет свое бесстыдство – убивают…
– Не велико бесстыдство… клюнула в губы.
– Ты горяч, я холоднее – пойду я…
– Поди и скажи им!…
– Я знаю, что скажу!
Таисий подошел к кругу. С сумы, лежавшей на снегу, встал отец Ульки, шагнул к Таисию, подавая топор, руки у старика дрожали, глаза слезились, сказал:
– Атаман, убей… Едина она у меня дочь, но круг велит – поганит устав…
Он вложил в руку Таисию топор.
Улька низко опустила голову, лицо стало бледно как снег, пятна намазанной сажи резко пестрили лоб и щеки.
– Убей стерво!
– Сука она!
– Архилин-трава, убери с очей падаль! Таисий взял топор, заговорил спокойно:
– Устав ваш ведом мне, он свят и строг, и не должно его рушить никому.
– Убей суку!
– Убью, только вам всем тогда брести в обрат на Коломну!
– А то нам пошто?
– Пошто на Коломну?!
Все поднялись со своих мешков на ноги. Таисий так же невозмутимо продолжал:
– Мой брат, старцы, любит его дочь! – Он лезвием топора указал на старика. – Убьем женку, Григорей уйдет на сторону… у нас зарок – не быть одному без другого…
– И ты уйдешь, Архилин-трава?!
– Уйду и я… под Москвой еще застава, она вас оборотит, так легче вам брести в обрат от сих мест, чем от Москвы!
Старцы заговорили:
– На Коломну не попадем…
– А и попадем, там смертно…
– Архилин-трава, убей суку!
– Молчите вы, волчицы! – замахали старицы на молодых.
– Мы отойдем… посоветуем – жди! – сказали старцы, и все трое отошли в сторону.
Таисий с топором в руке ждал.
Сенька тоже стоял не двигаясь.
Улька стояла по-прежнему, только по лицу у ней текли слезы.
Старики подошли, сели на свои мешки, один сказал:
– Атаман, ватага старцев порешила тако – Улька идет меж стариц и будет в дороге с ними ж везде… Коли Григорей избрал ее – той воли мы ни с кого не снимаем… А в городу, где добрый постой уладим, там и пущай сходятся для ложа…
– Мудро рассудили! Пусть будет так.
Все поднялись, навесили мешки, и ватага побрела с пением:
Не прельщуси на все благовонны цветы,
Отращу я свои власы
По могучие плечи,
Отпущу свою бороду по белые груди…
Часть вторая
Глава I. Царь и Никон
В пыльном тумане померкло солнце. Люди копошились в пыли, чихали, кашляли, отплевывались. Широкими деревянными скребами сгребали на стороны в канавы, где гнила всякая падаль, дорожный песок и пыль. Иные за ними мели, чтобы было гладко… ямы ровняли, ругались негромко:
– Штоб ему, бусурману, как поедет зде, ребро сломить!
– Не бусурман он! Православный, грузинской[166], в недавни годы к нашим в потданство объявился…
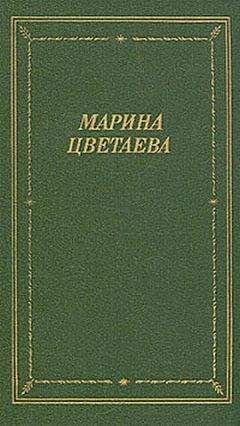

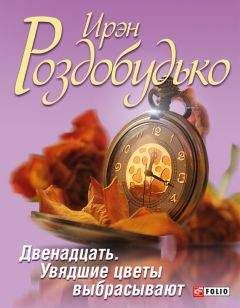
![Atlanta - Только рядом...[СИ]](/uploads/posts/books/2640/2640.jpg)