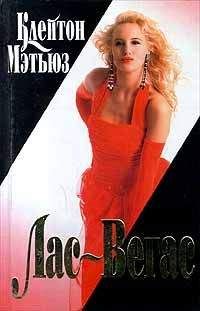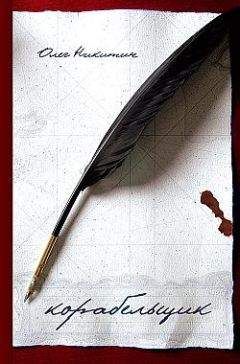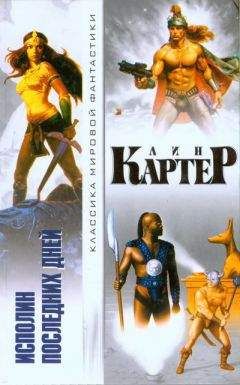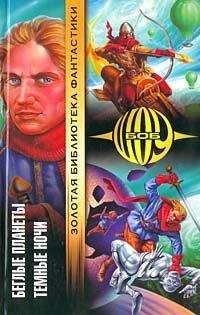Владислав Бахревский - Столп. Артамон Матвеев
— Измена для казаков — это как для поляков гороховая подлива к блюдам. Бывший гетман Юрий Хмельницкий снял монашескую рясу. Соединился с гетманом Ханенко, Ханенко поляки в гетманы поставили. К двум коршунам, как вы говорите, прилетел третий — Суховей, кошевой гетман. Втроём зовут к себе гетмана Демьяна Многогрешного — на Дорошенко. Дорошенко — ещё один гетман. Западный, но уже не польский, а казачий. Пять гетманов — пять несчастий. А что до измены? Изменой кормится старшина, а народ голову перед саблей клонит, у кого сабля, тот и пан.
— Канцлер[2] Ордин-Нащокин ненавидит казачков. За непостоянство ненавидит.
— Чтобы требовать постоянства, нужно постоянную жизнь устроить. — Артамон Сергеевич прижал на виске вздрагивающую жилку. — Киев отдан во владение великому государю на два года, срок уже истёк. Люди не знают, чьи они сегодня, чьи будут завтра. Богородице ли им молиться с утра или уже Матке Бозке.
Генерал отведал вишнёвки, и лицо у него стало печальным.
— Ах, этот есть непостоянный белый свет. Какой несравненный вкус вина, сколько жемчуга на платьях, сколько золота на главах церквей! Увы! Увы! Вся нынешняя моя жизнь совсем скоро будет мемоарем... Грустно! Грустно быть очень, очень важным — и вдруг... капут! Скажи, Артамон Сергеевич, кому нужен генерал без солдат?.. Но я всё-таки почитаю себя счастливым человеком. Только в России можно... слово, слово! — фольштенгих — полно... сполна познать, ты очень и очень нужен. — И вдруг засмеялся. — Хотя могут забыть про жалованье... Служи, получишь потом. Потом, потом... Вот и Блюментросту сказали — потом будешь лейб-медик. Потом.
— Блюментроста во многие дома приглашают, — сказала Авдотья Григорьевна.
— Но это — не лейб-медик.
Артамон Сергеевич улыбнулся и поднял кубок с вишнёвкой:
— Всё будет как нельзя лучше, Николай Антонович, но... потом. Немножко потом. Пусть и Блюментрост потерпит. Выпьем за это наше русское «потом».
Бауман любовался огнём настойки:
— Я думаю, все нестроения, все безобразия в России — от этого «потом».
— Верно! Верно! — воскликнул Артамон Сергеевич. — Научиться русскому человеку жить сегодня, в этот час и в эту вот минуту очень даже полезно, но всё-таки давайте ещё потерпим, а потом... — И он, смеясь, осушил кубок. — Я слышал, в Новой Немецкой слободе пастор Фокерот обидел пастора Грегори.
— Пфу! Пфу! У нас ужасный пфу! — махнул рукою генерал. — Обиднее всего, Фокерота я сам привёз. В 57-м году князь Мышецкий был в Дании и позвал на службу русскому царю меня. Я тогда был полковником и по просьбе князя набрал ещё десятерых: одного майора, восемь капитанов, а также пригласил за свой собственный счёт пастора Фокерота... Столько пришлось пережить неприятностей от пасторов-старожилов, от Якоби, Фадемрехта, Кравинкеля... Но я был твёрд, и Фокерот утвердился в слободе. И вот теперь он отравить жизнь пастору Грегори. А Грегори служит в моей кирхе, которую я построил на своей земле, вложил в неё свои деньги.
— Я помню, святой отец ездил в Германию собирать милостыню на кирху.
— Да, это так. Я посылал его учиться в Йену, где он и стал магистром. Рукополагали отца Грегори в Дрездене, в присутствии курфюрста Саксонии. Бедное моё сердце — я ошибся в Фокероте... Но преуспел в Грегори! Фокерот двух слов связно не скажет, а Грегори... как это — рейдеванхайт. Красный слов! На нашу кирху курфюрст Иоанн Георг пообещал Грегори тысячу талеров, герцог Эрнест — двести, вюртембергский Эбергардт — шестьсот, маркграф Баденский — сто. Из обещанного дали, увы, не полностью, а вот города — большой помощь: Регенсбург собрал двести шестьдесят шесть талеров, — я это помню, это было радостно, — Аугсбург — пятьсот, Нюрнберг — триста восемьдесят три талера и сорок шесть крейцеров... Грегори чудесный, лёгкий человек. Вам надо смотреть пьесы, какие святой отец разыгрывает в Рождество со своими учениками.
— Сначала о Блюментросте. — Артамон Сергеевич положил руку на руку генерала. — Пришлите его ко мне завтра поутру... Великий государь столько потерь пережил... Блюментрост... А кого ещё порекомендуете из людей верных, знающих, чтобы при случае послать в немецкие страны?
— Николай фон Стаден. Это не просто исполнитель, но умный исполнитель. Он человек весьма сведущий в самых разнообразных науках, а в военном искусстве более всего... Не перепутайте, есть Герман фон Стаден. Он брат Николаю, но весь его ум ушёл в дерзость. Однажды он даже вызвал меня на дуэль. Капитан — генерала! Я вынужден был отказаться, хотя мне очень хотелось наказать его.
— А из-за чего случился бунт, когда с обеих кирок русские люди сорвали крыши, переломали и выбросили алтари? — спросила Авдотья Григорьевна.
Бауман поднял глаза к потолку и развёл руками:
— Все несчастья — от людей... Супруга генерала Лесли — виновница той беды, в постные дни она заставляла слуг и крестьян есть мясо. Работать, работать! С восхода до захода солнца! Люди не могли в церковь сходить. Вот и бунт... — Бауман обвёл глазами стол, комнату, воздел руки к иконам. — Бунты, доносы... Все эти годы я нестерпимо хотел уехать в милую Данию. И что же? Пора близится, а я в отчаянии. Я не хочу уезжать... Я русским за двенадцать лет не стал, но Россия стала моей жизнью... Артамон Сергеевич, выбирайте из пожелавших служить вашему царю, выбирайте! Зачем вам чужие бездельники и жулики? Берите цвет, и расцветёте... Не хочу уезжать! — И у генерала вдруг задрожали губы.
— Медвежатинки! — Артамон Сергеевич придвинул гостю блюдо. — Самая мужская еда. И мёдом запьём, чтоб в носок ударило... Медвежатинку-то с хреном! Хренок дюжий!
Хватил сам полную ложку, задохнулся, онемел и просыпал из глаз слёзы под хохот Авдотьи Григорьевны и Натальи Кирилловны.
3
Последний стежок зелёного шелка, и вышивка, начатая ещё в Вене, мучимая в Яссах, спасавшая от безысходности в Киеве, — закончена. Высокая, с двумя шатрами церковь. Возле церкви ель, тоже как церковь, зелёный простор, по взгорью — кудрявая стена зелёного леса — милые кодры. В травах искорками золотые цветы, и стоящая пред церковью, пред красотою Божьей преподобная матушка Параскева Пятница.
Домна Стефанида вглядывалась в свою работу, ища в ней маленькие чудеса, которых она не вышивала, но которые объявились сами собой, как вон та золотая прядка ковыля, как крошечная птичка, севшая на крест... Стефаниде казалось: она смотрит в окно на милую родину.
Себя не помня потянулась, словно и впрямь можно было выглянуть из окна, и, роняя слёзы, приникла губами к зелёной траве, но это был только шёлк.
— Дитячко, дитячко! — Старица Евсевия, вышивавшая образ Влахернской Божией Матери, поспешила к государыне. — Что за немочь? Не головка ли разболелась? Натопили зело, кирпичами аж пахнет.
— Ах, матушка! — Стефанида подняла лицо. Чёрные глаза её блистали благодарно, превозмогая всё неутешное, что скопилось на сердце.
— Слёзка-то! Слёзка-то! Как жемчужинка. Вон, в нимбе...
Слеза, упавшая на Параскеву, трепетала и светилась.
— А это ведь указание тебе, — сказала старица. — Жемчугом надо расшить и нимб, и платье.
Домна Стефанида русскую речь понимала уже хорошо, но говорила с трудом.
— Жемчуг? Где возьмёт? Я — бедный.
— Матушка-Россия — жемчужное царство! Вон в ящике у меня — полнёхонек. Тут, правда, без отбору: и уродец есть, и угольчатый, половинчатый. Отбери, какой приглянется. — Поставила перед домной свечной ящик, черпнула пригоршню. — Ишь — непросыхающие слёзки!
Домна Стефанида взяла одну жемчужинку, положила на свою слезу.
— Ты, дитячко, — душа светлая, — сказала старица Евсевия. — Молчунья, а с тобой всё равно легко. Иголка сама ходит. Погляди, сколько я успела.
Лики Богородицы и Богомладенца были уже закончены.
— А небо — не знаю, то ли золотом расшивать, то ли жемчугом?
— Греки — золото... Купол — золото, икона — золото. — Домна помогала себе руками.
— Да уж понятно. Золотом царственно. Пусть будет золото. Икона Влахернская великая. Покровительница Царьграда. Византийскою императрицей обретена, Евдокией. А когда иконоборцы верх взяли, сию икону замуровали на сто лет. Одна беда миновала, другая на порог: басурмане Царьград повергли. Икону и увезли от греха на Афон. А уж с Афона нашему государю, заступнику святого православия, привезли. Алексей-то Михайлович, бают, был в сомнении, та ли икона, что хранила Царьград. Но монахи афонские прислали сказать: та самая, истинная, многочудесная... Для царевича Феодора вышиваю. Совсем отрок, но — какой молитвенник! Стоит в церкви, будто свечечка, и не потому, что прям, а потому что — светит! Право слово!
Старица отошла к иконам и принялась класть поклоны, Стефанида с нею.