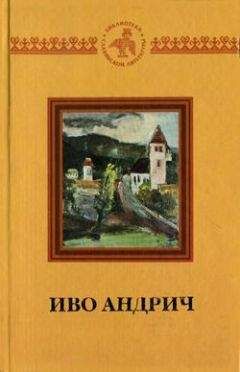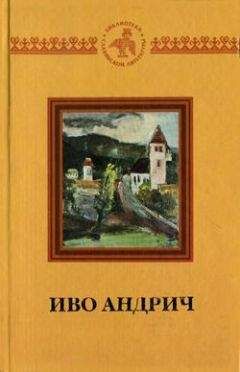Валентин Пронин - Катулл
— Похвально изучать александрийскую поэзию, прекрасное дело переводить Каллимаха. Но мы ведь пишем и думаем по-латински… — поддержал веронца Лициний Кальв.
— А моя плебейская душа жаждет уличного лицедейства, тем более после такой отменной попойки, — заявил Вар, оказавшийся в абсолютно здравом уме. — Оставим Акция[44] ученикам грамматических школ. Клянусь Меркурием, моим покровителем, я иду на ателлану!
— Где же она будет разыграна? — спросил Катулл. Он вспомнил, как все мальчишки в Вероне бегали по праздникам смотреть представление грубоватой и веселой комедии с забавным дураком Макком, болтуном Букконом, сплетником Доссеном и похотливым стариком Паппом.
— Идемте в курию Цереры. Там перед храмом поставили подмостки. Начало сразу после первой стражи[45].
— Клянусь всеблагими богами, решение принято! — воскликнул Вар. — Эй, мальчик, еще по чаше тускульского на дорогу!
— Гелланик, — позвал Катон, — возьми Стефана да кулачного бойца Нумерия. Будете нас сопровождать.
Гости покидали триклиний. Поспешив вперед, Гелланик зажег факел — кусок просмоленного каната.
Громко разговаривая и смеясь, поэты вступили в ночную тьму, четко отделенную на гранях домов от сияния зеленоватой майской луны.
V
На одной из тесных улочек Квиринала, возле дома всадника Стаберия, сидели трое мужчин в заплатанных туниках. Черпачками, сделанными из хлебной корки, они ели густую ячменную похлебку — пульту. Стена сада нагрелась от весеннего солнца, припекало и ступеньку, на которой они расположились. Но трое жевали размеренно, посапывая и вытирая кулаками вспотевшие лбы, как едят крестьяне, относящиеся к пище почти молитвенно.
Покончив с похлебкой, они съели и хлебные черпачки. Достали глиняную бутыль с отбитым горлышком и поочередно наливали в оловянный стаканчик дешевой кислятины. Трапеза настроила их благодушно, и начался послеобеденный разговор.
— Хороша пульта у стряпухи Порции, — сказал коренастый пожилой бородач, приехавший в Рим с Бенакского озера[46], — а, Лувений?
— Что верно, то верно, — подтвердил апулиец[47] Лувений, горбоносый, лохматый, с давно не бритой черной щетиной, — тут ты, Тит, прав.
— Слава богам, сыты — едим дважды в день, — снова сказал Тит. — Пахарю нельзя привыкать объедаться и бездельничать.
Черномазый апулиец ухмыльнулся и подтолкнул парня лет двадцати:
— Ну а мы бы не отказались от господских сластей. Свиное вымя в уксусе получше каши без масла, дурак поймет. Скоро, перед выборами, нобили[48] начнут ублажать народ… Столы поставят у Тибра — жратвы, вина, хоть тресни. Вот жизнь-то, а, Манний?
Парень махнул рукой и сделал недовольное лицо:
— Тебе хорошо, бросишь свой лоток с гнилыми тесемками и пойдешь куда тебе надо. А я-то в саду у сквалыги Стаберия за долги копаюсь: не захочет — не отпустит.
— А у меня римские безобразия, пьянство и распутство в тоску вгоняют… — мрачно произнес Тит.
— Ох, Тит! Ох, смешной! — скалил зубы Лувений.
Тит посмотрел на него укоризненно: что за человечишко вертлявый такой! — и продолжал рассуждать.
— Сейчас бы на поле всходы осматривать да нашим крестьянским богиням Сейе и Сегетии моления совершать. Вечером на озере сеть забросить, а перед сном — посидеть под платаном, распить по секстарию[49] винца с зятем и племянником.
Апулийцу Лувению до того стало весело, что он подпрыгнул на корточках и привалился к стене.
— Ох, Тит! До чего ты прост! Все бы в земле тебе ковырять, старый крот! И зачем ты только сюда притащился?
— Моя семья арендует у знатного господина Катулла землю под пшеницу и овощи. Прошлый год задолжали малость, аренду полностью не выплатили… Вот мне и говорят: «Поезжай-ка ты в Рим, будешь молодому хозяину прислуживать, а долг твоей семьи за эту службу зачтется».
— Рабов у них нет, что ли?
— Как не быть. Да только в наших краях все по-другому. Здесь, в Лации-то, говорят, тысячи рабов у богачей, а свободнорожденные разорены. Бродят по дорогам да на рынках подаяния просят…
— Знаем, — нахмурился Лувений.
— Рабы моему хозяину не подошли, а я, видишь, понравился. Конечно, я в лавку хожу, к завтраку Гаю Валерию сыр покупаю, а потом весь день маюсь, будто пес шелудивый… — Тит заморгал глазами и засопел, но одумался, жаловаться больше не стал.
— Тебе ли сетовать, — вздохнул Манний. — Твой молодой хозяин бестолковый, как теленок, весельчак, кутила… Не придирается, голодом тебя не морит…
Лувений придвинулся с деловым видом:
— А деньжонки у него водятся? Род богатый?
— Род Катуллов у нас известный. Отец Гая Валерия в городском совете сидит. А сам-то Гай Валерий уходит с утра как жених, выбритый, вымытый, надушенный, а приходит хмельной да измятый…
Лувений уставился своими бесстыжими глазищами с любопытством:
— Пирует небось? Со знатными юношами дружит?
— У кого деньги есть, чего же не пировать, — заметил Манний.
— И какие деньги можно просадить в Риме — подумать страшно! — сокрушался Тит. — Мой хозяин на подарки потаскухам сколько истратил! Да книг натащил ворох… Бывает, усталый, бледный, и — нет бы выспаться — всю ночь сидит и читает. Или пишет…
— Чего ж он масло-то в светильнике переводит? — удивился Манний.
— Дня ему не хватает, что ли? Читать-писать… — Лувений корчил рожи — явно хотел поддеть и Тита, и его Гая Валерия.
— Пишет он, скажу-ка вам правду, стихи, — пояснил Тит. — До стихов и другой блажи мне дела нет, но что про Гая Валерия толкуют доброе, клянусь Юпитером, это верно.
— В Рим лезть со стихами — все равно как решетом дождь ловить. Стихоплетов развелось во сто раз больше, чем бродячих собак.
Помолчали, выпили еще по стаканчику. Манний мотал головой и вздыхал — томился по деревне, а может быть, по милой…
Лувений посмотрел на него и промолвил лукаво:
— Лучшее время в деревне осенью: урожай собран, вино забродило. Самую цветущую девку отдают самому ражему парню, вроде Манния. Все пьянствуют и поют. Ну-ка, спой нам, Тит!
— Да мы не по&мем его галльские песни, — пренебрежительно сказал Манний.
— Разберемся. Мы теперь все римляне, — настаивал Лувений. Тит долго отказывался, но потом махнул рукой, крякнул смущенно и затянул сипловатым баском эпиталамий[50]:
О, Гимен — Гименей!
Услышь ты наш дружный зов!
Приходи к нам, веселый бог,
Добрых свадеб строитель…
— Гляди, как распелся мой захмелевший Тит! — воскликнул Катулл, появляясь из-за угла. С ним был красивый юноша в короткой тунике, затканной золотыми блестками.
— Старик поет с чувством, не правда ли, — продолжал Катулл, — хотя и сильно шепелявит, что сразу выдает жителя Цизальпинской Галлии.
— Наверное, от него ты и набираешься тем для элегий… Или скорее для гимнов, — сказал юноша, поправляя нежной тонкой рукой черные волосы, падающие на плечи.
— Что ж, Камерий, ты прав: кроме александрийских ямбов, я склонен находить своеобразную прелесть в песнях народа. Поэт, избегающий их, напрасно ограничивает свое воображение. Однако, Тит, бессовестный, я привел гостя, а ты и не думаешь подать нам по чаше вина.
Тит молча забрал миску, оловянный стаканчик, бутыль и пошел вокруг дома к невысокому приделу, облицованному бетоном. Это и была та пристройка, которую Катулл снимал за две тысячи сестерциев в год. В первой ее комнате размещался Тит со своим хозяйством, во второй и третьей стояли скамьи, стулья, спальное ложе, туалетный столик и шкаф со свитками книг. Тускло желтела бронзовая чеканная ваза из Коринфа, на шкафу расставлены терракотовые статуэтки, светильники, дорогая посуда красного стекла, мраморная статуя Дианы — Латонии, у спального ложа — письменный прибор и таблички — церы.
Катул небрежно отбросил хлену. Покусывая нижнюю губу, он вспоминал объятия оливково-смуглой сицилийской гречаночки Ипсифиллы. Сегодня он заявился к ней с утра и до полудня слушал ее млеющий лепет.
Выходя из Ипсифиллы, Катулл встретил юного Каме-рия. Подозрительно, что этот красавчик оказался именно здесь. Неужели похотливая девчонка пригласила и его? Катулл со смехом погрозил Камерию, сделавшему невинный вид.
Камерий беспечен и остроумен; он состоит в актерской коллегии при храме Минервы. В Риме к актерам по традиции питают презрение, не то что в Греции, где они пользуются любовью сограждан. Правда, в недалеком прошлом и на римских подмостках выступали великие трагики и мимы, заслужившие всеобщее признание, — такие, как Эзоп и Росций.
— Итак, дорогой Гай, ты увлекаешься крестьянскими песенками… Но что же из этого последует достойного и благородного для поэзии? — разглагольствовал Камерий, развалившись на стуле.