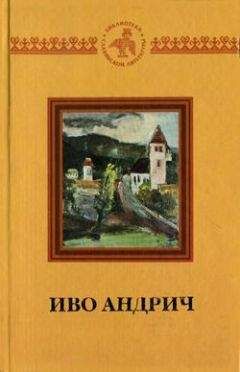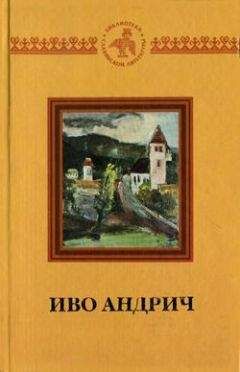Валентин Пронин - Катулл
— Наш застенчивый друг, — пропел Аллий, обнимая Тицида, — боится, как бы от обсуждений супруги Метелла Целера мы не перешли к его двоюродной сестрице Метелле, в которую наш друг так пламенно влюблен…
— И которую в своих стихах тщетно прикрывает именем никому неизвестной Периллы, — ехидно добавил Руф.
III
Тем временем в таблин вошел пожилой раб-иониец[25] и шепнул несколько слов хозяину.
— Гелланик сообщил, что готово скромное угощение, — сказал Катон, вставая. — Прошу перейти в триклиний[26].
— Не думай отведать здесь изысканных разносолов, — предупредил Катулла Альфен Вар. — У нашего дорогого Катона легкое помешательство на идее простоты золотого века… Клянусь Меркурием, сам увидишь!
Вместо затейливой кулинарии, обычной в богатых римских домах, на треугольном столе белели круги овечьего сыра, стоял мед в глиняной миске и сложенные горкой хлебцы.
Гелланик раздал чаши, поставил два сосуда с холодной и горячей водой и с помощью мальчика-виночерпия внес пол-урны[27] сетинского.
Прямо к обеду явился Аврелий, кудрявый юноша с кошачьими движениями и хитрой улыбкой.
— За опоздание ты наказан, — приветствовал его Кальв, вползая на пиршественное ложе. — Читай приличествующие случаю стихи, если твоя голова способна хоть что-нибудь вспомнить…
— Для тебя, любезный Кальв, я вспомню хоть всю «Илиаду».
Аврелий взял из высокой вазы ветку цветущей сливы, бросил лепестки в кратер[28] с вином и произнес по-гречески:
Пенься, огромный сосуд, многопенною влагою Вакха
Брызни! Пусть оросит трапезу нашу она![29]
Запивая сетинским кусок жареного сарга[30], Катулл разглядывал своих новых друзей. Вокруг него хохотали, спорили, читали стихи и взыскательно выверяли размеренные созвучия. Он чувствовал, как душа наполняется беспечным весельем, и, блаженно полузакрыв глаза, слушал музыку дружеского застолья.
Между тем яркая синева сменилась на закате дня фиолетовыми оттенками сумерек. Потоки темного золота хлынули между колонн перистиля[31], словно сам Феб посылал последний привет своим избранникам — молодым поэтам… Может быть, так казалось захмелевшему Катуллу. И этот стол с беспорядком пиршества, и фигуры, вдруг застывшие с чашами в руках, привиделись ему прекрасным барельефом из вызолоченной бронзы.
— Ну, нет уж, — донесся до него сквозь дремоту голос неутомимого Вара, — хватит кипятить себе кровь! Мой Катон, вели принести тускульского для освежения брюха и мозгов.
Явилось тускульское, и Вар — опытный и выносливый кутила — вливал в себя звучную струю прямо из кувшина.
— Эван[32]! — крикнул он и отбросил пустой кувшин.
Гай Меммий решил последовать примеру адвоката, но в самом начале состязания поперхнулся и залил вином свою роскошную тунику. Не смущаясь, он скинул ее на пол.
— Кифару! — потребовал Меммий, оставшись в набедренной повязке. — Кифару мне и элегический венок!
Две молоденькие рабыни подали Меммию кифару и надели на его рыжеватую голову венок из плюща[33]. Опершись на локоть, Меммий зазвенел струнами и запел:
Градом, Юпитер, осыпь, окружи меня тьмою,
Молнией жги, надо мною все тучи свои отряхай!
Но, лишь погибнув, смирюсь я, а если ты жизнь мне даруешь,
Вакху с Венерою я верно опять послужу!
Рукоплескания пирующих показались Катуллу искренними: в кружке поэтов не допускалось подобострастия. Катон прищелкнул пальцами и сказал:
— Прелестная мелодия и совсем не дурной перевод Асклепиада[34].
— Ни любовницы, ни попойки, ни магистратские обязанности не лишают Меммия милостей Муз, — поддержал Катона Лициний Кальв.
— О, Гай, сокровище мое, — лепетал быстро напившийся Фурий, — дай я тебя расцелую!
Но Меммий взглянул на него с таким высокомерием, что Фурий осекся и поспешил наполнить свою чашу. Только хозяин и Корнелий Непот разбавляли вино, остальные пили чистое, возбужденно блистая глазами и становясь все красноречивее.
— Когда кривляка Возузий читает под базиликами свои корявые откровения, — кричал Вар, — меня тошнит! А вокруг собираются надутые ценители подобных виршей, считающие, что докопаться до смысла Возузиева хлама дано только таким тонким умникам, как они. Остальные же, по их мнению, недоучки, бездарности, деревенские невежды…
Корнифиций обратился к Кальву растроганно — от души и немного спьяну:
— Милый Лициний, как и ты, я выступаю в собраниях. И довольно успешно, как говорят. Но тем более мне следут отметить выдающийся талант друга. Я поднимаю чашу за твой ораторский дар, разящий, как меч, и убеждающий, как философия Эпикура[35]. И за твою благородную поэзию.
IV
Попросив слова, крепыш Цинна приосанился, будто взошел на трибуну Форума; он встряхивал спутанными белокурыми локонами и беспечно проливал из чаши вино.
— Друзья! — сказал Цинна. — Я благодарен судьбе. Клянусь Геркулесом! Вокруг меня люди, наделенные разнообразными и высокими достоинствами. Мои воспитатели, обучавшие изящным искусствам непоседливого сорванца, не могли и мечтать о таком обществе. Вот историк, вот ораторы и поэты… Поклонники Энодиамены[36] и божества с бассарейскими кудрями[37]… И как вещал меонийский слепец Гомер:
Нет, не забыт ни один из даров от бессмертных, —
Их лишь любимцам дают, произвольно никто не получит.
Что там сбрехнул о нас напыщенный Цицерон? Друзья! Я верю, что ваши эпиллии[38] и элегии, ваши хроники и трактаты переживут столетия, вопреки злобе и клевете завистливых недоброжелателей. Я закончил.
— Короткая, но убедительная речь, мой мальчик, — важно сказал Кальв. — Только не перескакивай с латинского на греческий, говори на каком-нибудь одном языке.
Неожиданно Вар вскочил на стол и, покачиваясь, заревел:
— Речь Гая Цинны пылает в моей утробе! Сюда еще кувшин, чтобы залить это пламя!
Голос Вара казался непристойным и диким, но в коричневатых, узеньких глазках красноватым огоньком поблескивала уверенность.
— О, великие боги, ты пьян, Альфен! — хохотал Аллий. — Эй, свяжите этого калидоиского вепря!
— Пусть кипит наша кровь! Пусть на разгульном пиру и на ложе страсти настигает нас вдохновение! — старался перекричать Аллия Тицид. Пот катился по его лицу, промокла и затканная голубыми узорами туника. — Порыв юности и крылатое воображение — только они служат поэту! Ибо сказал блаженный Платон[39]: «Кто без священного безумия подходит к порогу творчества, надеясь, что благодаря сноровистости станет изрядным стихотворцем, тот еще далек от совершенства; творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых».
Внесли светильники, тени заметались на потолке. В триклинии по-прежнему спорили и наполняли чаши. Катон шепнул несколько слов Гелланику. Прислонившись к стене, иониец заиграл на шипящей фригийской флейте[40]. Катон взял кифару и присоединил стройные аккорды к его пастушеским руладам.
Послышалось звяканье меди, вбежали две прежние рабыни с кимвалами[41] в руках.
Смущенно поглядывая друг на друга, девушки начали томный восточный танец. Они медленно кружились, поводили плечами и покачивали бедрами. Но вот флейта засвистела быстрее, и танцовщицы ускорили движения, проносясь то влево, то вправо перед глазами гостей. Разметались пряди распущенных волос, замелькали тонкие руки с гремящими кимвалами…
Кривляясь, как пьяный фавн, Аврелий обнял одну из танцовщиц, к другой, сладко ухмыляясь, приближался Тицид. Девушки ловко скользнули у них из-под рук, швырнули на пол погремушки и выбежали из триклиния.
— Тицид, миленький! — истошно вопил Фурий. — А как же Метелла… то есть, тьфу… Перилла?
— Вот бесстыдники, не дали девчонкам закончить танец, — смеялся Аллий, подмигивая Катону.
— А ведь сегодня ночью в честь праздника Цереры[42] будет разыграна ателлана[43] при факелах! — Юный волокита Аврелий уже забыл о своей неудаче и готовился к дальнейшим забавам.
— Стоя в толпе черни, любоваться непристойными кривляниями шутов… — пожал плечами Катон.
Внезапно с Катоном горячо заспорил Катулл:
— Ты считаешь ателлану забавой черни? Но разве в ней не отразилась душа наших предков? Любезный Катон, в народном веселье ты почувствуешь животворную силу и хлебнешь едкого италийского уксуса.
— Похвально изучать александрийскую поэзию, прекрасное дело переводить Каллимаха. Но мы ведь пишем и думаем по-латински… — поддержал веронца Лициний Кальв.