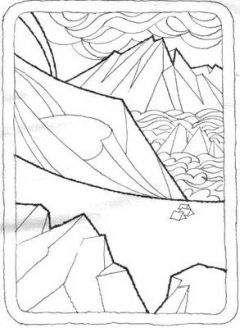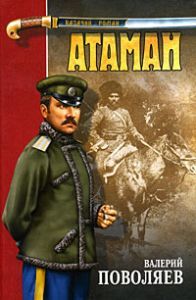Бурсак в седле - Поволяев Валерий Дмитриевич
Перегнул палку Шевченко — выступление его делегатам не понравилось.
— Окстись, Гаврила! — прокричал из зала знакомый голос, — Шевченко пригляделся: судя по всему, это был делегат из Полтавки, полустаницы-полудеревни, хриплоголосый говорливый казак с висячими усами, остальных делегатов Шевченко знал. — Не слишком ли круто загибаешь салазки?
— Нет, не круто, — качнул головой Шевченко, — совсем не круто. Если в атаманах у нас останется Калмыков — будет плохо всем нам. И из этой беды мы не выгребемся.
Шевченко предложил делегатам голосовать. Несмотря на сомнения, суету, возникшую в зале, на некое сопротивление — впрочем, оно было слабое, — голосование явно сложилось бы не в пользу Калмыкова. К трибуне подскочил хорунжий Эпов — проворный, кривоногий, пахнущий конским потом, будто бы только что слез с лошади.
— А зачем голосовать, Гаврила? — вскричал он фальцетом. — Тебе, похоже, казачьи съезды не указ?
— Указ, — не согласился с Эповым Шевченко.
— Не вижу. Ты решил обидеть стариков, проголосовавших за Ивана Павловича в прошлый раз… Я не стал бы делать этого.
По залу поплыл дым — делегаты без курева не могли обойтись, там, где приходилось ломать голову, ворочать мозгами, курева употребляли в два раза больше. Сизые слои, будто тучи, перемещались в воздухе, шевелились, как живые, сбивались в кучи, распадались — скоро в зале будет совсем не продохнуть. Эпов энергично помахал ладонью перед носом, разогнал дым, потом рассек пополам слишком близко подплывший к нему дымный ком:
— Никаких голосований!
В полдень в Иман приехал майор Данлоп; через несколько минут, словно бы привязанный к майору коротким поводком, прибыл подполковник Сакабе. Видно было, что японцы с англичанами соперничают — ни один, ни второй не выпускали друг друга из вида. Калмыкову же это было только на руку — он собирался получить деньги и у англичан, и у японцев. А если повезет, то круглую сумму слупить и с французов.
Те, правда, копали неглубоко, на половину лопаты, не более, но тоже очень хотели утвердиться на Дальнем Востоке. Уж слишком много здесь разных богатств имеется — у французиков глаза при виде их делаются широкими, — целая планета проскочит, утонет, накроется с головой, — и они теряли дар речи: вот бы эти все места взять да им бы подарить!
Когда в зале появился Данлоп, Калмыков почувствовал себя увереннее — это был добрый знак. А когда увидел подполковника Сакабе, совсем повеселел.
— Имейте в виду, — едва ворочая громадной нижней челюстью, предупредил Данлоп атамана, — ночью вас попытаются арестовать.
— Ночью сегодня или ночью завтра?
— Это я не знаю.
— Не получится, — уверенным тоном произнес Калмыков.
— А вдруг? — совсем по-русски прозвучал вопрос Данлопа, он прищурил один глаз, сразу делаясь хитрым и хищным.
— Не получится, и все тут, — сказал Калмыков. — Без всяких «вдруг».
Хоть и опасной силой были фронтовики, — особенно когда собирались вместе, они могли создать головную боль кому угодно, даже самому царю-батюшке, — но Калмыков обвел их вокруг пальца, будто несмышленых детишек. Атаман сказал приближенным делегатам, что будет ночевать в одном месте, — эта информация незамедлительно ушла к вахмистру Шевченко; в штабе полка велел, что, если понадобится по срочному делу, искать его по второму адресу, — это было произнесено громко, для всех, атамана услышали не только те, кому следовало его услышать, — сам же ночевал на третьей квартире вместе с Гришей Куреневым, ординарцем.
Ординарец стал для него человеком очень близким, заменил всех родственников, вместе взятых, роднее брата сделался… Спали не раздеваясь, при оружии. Фронтовики пробовали найти, арестовать Калмыкова, но у них из этого ничего не получилось — атаман как сквозь землю провалился. Утром Калмыков как ни в чем не бывало появился на казачьем круге, в зале. Встретившись взглядом с Шевченко, он издевательски усмехнулся.
На заседании круга окончательно определились с лозунгами. Шевченковцы — прежде всего фронтовики, — во всю глотку горланили: «Вся власть Советам!» Калмыков твердил обратное: «Долой власть Советов!»
Пути их разошлись навсегда, Калмыков и Шевченко стали заклятыми врагами.
В конце четвертого марта Калмыков предупредил хорунжего Эпова:
— Будь готов!
Тот вместо ответа наклонил голову, давая понять атаману, что готов. Калмыков разбойно подмигнул атаману и произнес коротко, будто только это слово и знал:
— Молодец!
Следом атаман предупредил Былкова:
— Будь готов!
Тот засмеялся неожиданно радостно, показал атаману желтоватые прокуренные зубы. На таких людей, как Эпов и Былков, можно было рассчитывать. Калмыков ногтем расчесал усы — вначале один ус, потом другой, подобрел, заулыбался своим худым лицом, выражение загнанности, сидевшее у него в глазах, исчезло.
Он подозвал к себе Савицкого, сказал:
— С этим кругом все понятно — за километр видно, куда гнут делегаты, особенно фронтовики.
— К сожалению, да.
— Завтра нам надо быть во Владивостоке. Предстоят переговоры с иностранными консулами.
— Раз надо быть — значит будем.
Ночью здание Иманского казначейства Государственного банка окружили полтора десятка вооруженных всадников. Руководил всадниками сам Калмыков — маленький, с ясным злым голосом, прочно сидящий в седле; от него не отделялся ни на сантиметр другой всадник — плотный, сильный, тепло одетый, с английским пулеметом в руках.
Оглядевшись, атаман скомандовал негромко:
— Начали!
Несколько всадников спешились, вбежали на крыльцо казначейства. Один из них громыхнул рукояткой револьвера в дверь:
— Сторож!
В ответ — ни звука. Испуганный сторож находился где-то рядом, спрятался то ли за дверью, то ли за стенкой тамбура и — ни гу-гу. Будто умер.
— Сторож! — вновь позвал незваный гость хранителя здешних запоров. — Открывай!
В ответ вновь ни звука. Но сторож здесь был, он не мог не быть в этом хранилище денег просто по инструкции. А инструкции банковские работники соблюдали свято, это у них заложено в крови.
— Открывай, кому сказали! — повысил голос незваный гость. — Иначе сейчас из пулемета разнесем всю дверь. Даже щепок не будет, все превратим в пыль. Понял, дед?
Внутри помещения закашлял, засморкался невидимый человек, зашаркал ногами — все звуки, производимые за дверью, были хорошо слышны, будто дело происходило в певческом клубе с хорошей акустикой, а не в глухом, с глубокими казематами казначействе.
— Я у тебя спрашиваю, сторож. Понял? — прохрипел налетчик. Голос у него был разбойный, как у молодца с большой дороги.
Сторож не ответил, молча открыл дверь.
Несколько человек вломились в казначейство, остальные, окружив здание, продолжали сидеть на конях — ждали результата.
— Включи свет! — было приказано сторожу. — Чего в темноте сидишь?
Через полминуты в глубине дома зажглась тусклая электрическая лампочка.
— Веди в хранилище денег, — велел сторожу человек с разбойным голосом — это был Эпов; при свете лампочки можно было хорошо разглядеть его лицо; сторож нерешительно посмотрел ему в глаза и произнес едва слышно:
— Не имею права!
— Я тебе сейчас покажу такое право, что ты у меня не только батьку с маманькой забудешь — забудешь самого себя!
Сторож неуклюже повернулся и, сгорбившись, побрел в хранилище, спина у него обиженно подрагивала. Люди Калмыкова, бряцая шпорами, двинулись следом.
— Посадят меня, ой, посадят, — внятно, расстроенно проговорил сторож.
Эпов захохотал.
— Не бойся, дед, страшнее смерти уже ничего не будет… А смерть — это тьфу! — он на ходу громко бряцнул шпорой и растер плевок. — Это легче легкого. Выдуть бутылку «смирновской» из горлышка гораздо тяжелее.
Денег в хранилище оказалось всего ничего, жалкая стопка — тридцать тысяч рублей.
— С гулькин нос, — разочарованно произнес Эпов, — можно было даже не приходить.
— Посадят меня, ой, посадят, — привычно заныл сторож.