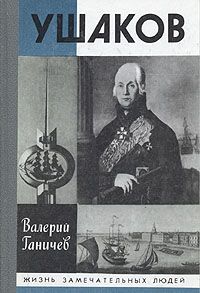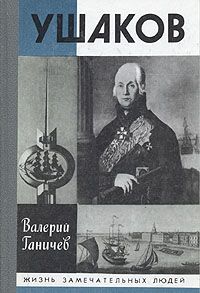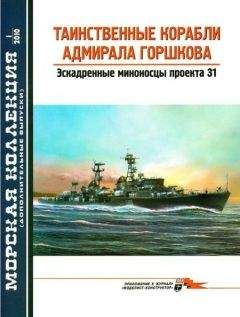Марианна Яхонтова - Корабли идут на бастионы
Непенин не слыхал голосов часовых, он излагал адмиралу свои мысли о том, как в далеком будущем долг и влечение станут едины.
Упираясь локтем в колено и положив на руку подбородок, Ушаков чертил на песке тростью никому непонятные знаки.
– Прости меня, я тебя не слушаю, – произнес он наконец. – Скажи мне, ее горе – моя вина?
И трость в его руке остановилась.
– Нет, – ответил Непенин, спокойно прерывая свои рассуждения. – В том мире, в котором мы живем, нет и не может быть счастья. Пусть она поймет это, если сумеет, и не требует от жизни того, чего та не в силах ей дать. Я не люблю капитана Саблина, но не думаю, чтоб кто-нибудь другой сделал Лизу счастливее.
24
Суд разбирал дело парусника Трофима Еремеева.
Месяц назад из мастерской, где шили и чинили матросскую и солдатскую амуницию, пропала штука казенного сукна. Как показали ластовой офицер, поручик Нифонтов, и один из мастеровых, в сумерках под окном мастерской видели парусника и с ним клейменого бродягу и будто Еремеев передал бродяге деньги и небольшой узелок.
На вопрос члена следственной комиссии капитан-лейтенанта Балашова, каким образом в сумерках они разглядели деньги, мастеровой ответил, что явственно слышал звон монет, а ластовой офицер добавил, что видел, как одна монета упала. Когда парусник и клейменый ушли, офицер нашел ее на том месте, где они стояли. То, что парусник встретился вечером с неизвестным клейменым бродягой, подтвердил, правда очень неохотно, и Павел Очкин. Он видел только, что они куда-то вместе пошли, а больше ничего не знал. Ночью же окно мастерской было взломано и штука казенного сукна исчезла. Исчез и клейменый.
Поручик Нифонтов рассказывал, как он отправился донести о краже начальству. Дорогой встретил он парусника и двух матросов. Поручик не удержался и в негодовании сказал Еремееву:
– Вот пропала штука сукна. Ты либо сам вор, либо пособник.
На что Трофим, видимо бывший уже во хмелю, дерзко заявил:
– Справедливо твое слово: кто одну штуку стянул, тот вор, а кто двадцать штук – тот праведник. Праведные это хорошо знают, и ты лучше всех.
Помимо обвинения в воровстве, возникло еще дело об оскорблении офицера. Парусник был взят под караул, и военно-судная комиссия в составе капитана Сарандинаки и капитан-лейтенанта Балашова приступила к дознанию.
Оба члена комиссии держались совершенно различных мнений насчет цели судопроизводства. Поэтому они почти по каждому вопросу никак не могли сговориться. Балашов считал, что главное – это установить истину и, найдя ее, действовать просвещенно и по совести. Капитан Сарандинаки, наоборот, полагал, что устав надо почитать превыше всякого чувства.
За несколько дней до суда Ушаков ознакомился с материалами предварительного дознания. В делах судебных он имел свою методу, и Балашов представил ему одни только факты, не высказывая о них никакого мнения. Адмирал считал, что чужие мнения только затемняют смысл фактов, и очень гневался, когда, опережая время, люди пытались подсовывать ему свои выводы.
Не надеясь на чужое беспристрастие, адмирал был совершенно уверен в своем. Прочитав показания подсудимого и свидетелей, адмирал отодвинул бумаги.
Как раз в эту минуту к нему вошел капитан Елчанинов.
– Прошу простить, ваше превосходительство, что являюсь незваным, – сказал он и улыбнулся обычной напряженной улыбкой, чуть приоткрыв зубы.
– Очень рад, Матвей Максимович, – сказал адмирал, даже не пытаясь вызвать на своем лице хоть какое-нибудь подобие удовольствия.
Елчанинов никогда не приступал к делу прямо.
Сделав предварительно несколько ехидных замечаний по поводу изобретенной Доможировым жидкости для борьбы с древоточцами, он неожиданно сказал:
– Да, ваше превосходительство, едят. Черви едят обшивку. Вот люди стараются, чтоб не ели, а они едят. Такова судьба всех страстей. Мы боремся с ними, но они же снедают наш дух.
– Да, это действительно случается, – сказал адмирал, не понимая, какое отношение имеет дух к корабельной обшивке.
Елчанинов продолжал философствовать. Он разделил людей на три категории. Высшей моралью обладало просвещенное дворянство, моралью среднего качества – купцы и мещане, – а самой низшей – мужики, солдаты, матросы.
– На примере Франции мы видим, сколь пагубно, если страсти низшего сословия разрывают сдерживающие их узы, – заключил он.
– А по какому случаю, батюшка, залетели вы столь далеко? – насмешливо спросил адмирал.
– А вот по этому самому случаю, ваше превосходительство, – ответил Елчанинов и протянул руку к секретеру, на котором стояла деревянная статуэтка франта.
Адмирал с недоумением взглянул на посетителя.
– Я полагаю своим долгом дворянина и офицера доложить вам, ваше превосходительство, что тот, кто сделал эту куклу, и совершил преступление. Образ сей родился в душе темной и преступной.
– Так ведь вы уже докладывали об этом и даже письменно.
– Хочу и устно присовокупить…
– Что именно?
– По наблюдениям моим, человек этот не только пьет, произносит дерзостные слова, но возбуждает команду к неповиновению.
– Когда и где же это было, сударь? И почему вы ранее мне о том не доложили?
– Не желал тревожить ваше превосходительство.
Капитан рассказал о том, как парусник Трофим Еремеев не захотел чинить паруса и должен был за это получить некоторое количество линьков. Но он успел так настроить людей, что канонир Иван Антонов отказался выполнить возложенную на него обязанность профоса.
– Я думал пресечь в зародыше всякое своевольство, ваше превосходительство. Семена, посеянные Емелькой Пугачевым…
– О сих семенах прошу доносить мне незамедлительно, – сказал адмирал, с трудом удерживаясь, чтоб не бросить в своего собеседника лежавшую на столе книгу. – Кто позволил вам скрывать от меня подобные происшествия? Придется взять ваш корабль под особое наблюдение, ибо вижу, что рачение ваше недостаточно. О каждом самомалейшем случае извольте доносить мне письменно и притом совершенно секретно. Можете идти.
И адмирал махнул перед посетителем рукой.
– Слушаюсь, ваше превосходительство, – сказал Елчанинов, никак не ожидавший такого оборота дела. Выходило, что вместо того чтоб изыскивать крамолу, он пытался ее скрыть. Это так потрясло капитана, что, уходя, он забыл свою шляпу.
Если б он вернулся за ней, то увидел бы, что на лице адмирала, за минуту перед тем гневном и свирепом, блуждала почти веселая усмешка.
«Ну, дорогой, задаст тебе пару твой же Емелька, – думал адмирал. – Впредь десять раз подумаешь, прежде чем его подсунешь. Я ведь вижу, что ты только из-за него сюда и пришел. Видно, с парусником у тебя какие-то счеты. А какие? Ежели ты прямо о том не говоришь, то, значит, счет сей не в твою пользу. И ежели ты о Емелькиных семенах вовремя не донес, значит, их тогда за семена не почитал».
Адмирал был не склонен преувеличивать опасность, которая угрожала государству Российскому двадцать лет назад. Он хорошо помнил парусника по службе на «Святом Павле». Знал его за храброго и исполнительного человека и даже не раз отличал. Конечно, человек мог измениться, начать пьянствовать и дерзить, но Емелька Пугачев тут, надо полагать, совсем ни при чем.
Если капитан Елчанинов пытался столь откровенно перетянуть на свою сторону весы правосудия, то поручик Нифонтов рассчитывал сделать то же самое, но путями окольными. В своих показаниях он ссылался на устав и даже упомянул о той статье, где за простое общение с клейменым полагалась ссылка на галеры. Статья эта давно устарела и была лишь данью прежним жестоким обычаям. Устав давно следовало пересмотреть, и во время прощальной аудиенции у генерал-адмирала был об этом разговор. Ушаков тогда прямо сказал, что необходим устав, соответствующий времени и смягчению нравов.
Да, но пока напишут новый устав, паруснику грозит ссылка на галеры.
Адмирал очень стойко и даже нетерпеливо отводил все внушения извне, были они в пользу или против него. Но целый рой собственных соображений теснился в голове Ушакова, и он не замечал того, что каждое из них тянет за собой истину, как вол нагруженную арбу.
Ушаков хотел знать отношение команд к предстоящему суду. Командиры кораблей сообщили ему, что матросы только и говорили, что о деле парусника Еремеева. Они явно ему сочувствовали и не верили, что он мог быть вором. Суд вызвал в их среде большую тревогу. Адмирал за долгие годы своей службы во флоте знал, что за дурного человека и вора команда так тревожиться не будет. Приговор суда должен был решить не только то, виноват парусник или нет, но и то, есть ли на свете правда для простого человека. А русский человек на правду чуток, как никто. Решался тут и еще один вопрос, который Ушаков считал очень важным: станут ли те узы, что связывают его с подчиненными, еще крепче или ослабнут? Крепость их была необходима в повседневной работе и в будущих боях с врагом.