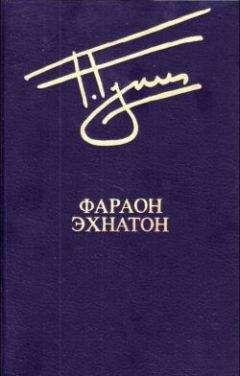Лев Жданов - Цесаревич Константин
Почти у всех были бледные лица, глядели все решительно и мрачно. Это молчаливое, многочисленное собрание как будто думало одну думу, трепетало одним напряженным чувством и имело грозный, внушительный вид.
Генерал Тулинский, обычно живой, эластичный, все готовый примирить человек, явился вскоре в большой приемный зал и поклонился очень приветливо в ответ на сдержанный поклон своих посетителей.
Вид у генерала сейчас был довольно печальный. Бледное, почти зеленоватое лицо говорило, что он не спал всю ночь или страдает сильнейшей коликой желудка. Этому впечатлению еще помогало, что он ежился и подбирался, поднимал нервно плечи с эполетами, втягивал живот, в страдальческой гримасе обнажал испорченные зубы, словом, вертелся, как на угольях.
И заговорил он не сразу. Сперва откашлялся, принял внушительный вид, потом вдруг словно спохватился, изобразил отеческую любезность и благоволение… Словом, нащупывал почву: как себя вести в настоящую необычайную минуту…
Он наравне с другими "честными поляками" убеждал Константина, что не надо уступать. Молодежь и так чересчур своевольна. А показать перед ней слабость, обнаружить наклонность к уступчивости, так выскочки и вовсе сядут на шею…
Этим начальники думали больше укрепить свой авторитет, сделать себя более необходимыми, особенно, если волнения будут продолжаться, как они сами того ожидали.
И вдруг, неизвестно почему, Константин отменил все свои прежние решения, полные твердости, спасительные для дисциплины и сильной власти… Ему, Тулинскому, поручил исполнить то, чего генерал никак не ждал со стороны цесаревича…
Тулинский даже надеялся, что Константин до утра одумается, отменит свое распоряжение, изменит приказ…
Но увы! Настал час, офицеры явились. Отмены не было и приходилось передать им сполна все, как было поручено главнокомандующим.
Генерал приготовил дома начало речи, даже всю ее. Но сейчас она испарилась из головы, как соус со сковородки, слишком накаленной огнем. Остались одни подгорелые хлопья, отрывки слов и мыслей.
А начать надо.
И Тулинский сразу отрезал:
— Господа! Нам всем известны прискорбные случаи, которые общая молва связывает с той карой, которая постигла двух здесь стоящих капитанов, панов Шуцкого и Гавронского. Желая положить конец толкам и успокоить взволнованные умы, его высочество поручил мне в присутствии всего полка принести его извинения в опрометчивости перед теми двумя офицерами, которые должны были встать под ружье. Это именно я теперь и выполняю, господа капитаны Шуцкий и Гавронский. Позвольте узнать: удовлетворены ли вы этим сполна?
Задавая свой вопрос, генерал ждал, что последует взрыв признательности, который несколько скрасит и его неловкое положение, и всю эту тяжелую сцену, конечно, долженствующую стать известной всей Варшаве, целой Польше.
Но случилось нечто совершенно неожиданное и для него, и для большинства присутствующих.
Выступил капитан Шуцкий и медленно, печально, но отчетливо проговорил:
— Мы оба не можем дать ответа, ваше превосходительство, потому что дело теперь касается всего общества офицеров, вставших на нашу защиту, тяжелой жертвой купивших настоящую минуту нравственного удовлетворения. Оно пускай и дает вам первое свой ответ.
— Что же, господа офицеры, тогда я к вам обращаюсь с тем же, — повторил Тулинский, поворачиваясь ко всем офицерам вообще.
Легким говор прошел по рядам и группам стоящих здесь бледных, взволнованных людей, у которых сейчас не только мундиры, воротники, но даже лица, выражение глаз, невольные жесты были однообразны, почти одинаковы.
— Что ж… Если так… Если он наконец… Извинение, конечно, искупает ошибку. Даже такую тяжкую! — раздались возгласы со всех сторон.
Наконец, потолковав с остальными, вышел один, старший по годам, офицер и заявил;
— Общество офицеров 3-го полка, в виду оглашенного здесь генералом извинения, считает вопрос исчерпанным и самый факт как бы не свершившимся. Да будет этот печальный случай предан вечному забвению с обеих сторон!
— Так! Да! Да будет! — прозвучали голоса.
— Очень рад! — сразу порозовев, приобретая прежнюю эластичность и самообладание, проговорил генерал Тулинский. — Я так и доложу его высочеству…
Он уже сделал было движение к дверям, как вдруг остановился и желая быть любезным до конца, снова обратился к Шуцкому:
— Ну, что, мой строгий капитан, теперь вы, надеюсь, вполне удовлетворены?
— Нет, ваше превосходительство, — так же печально, медленно и веско отрезал Шуцкий.
— Как?! Вы не…
И генерал, уже готовый было совсем лететь дальше по назначению, и многие из офицеров, двинувшиеся к выходу, остановились, словно замерли в ожидании.
Другие, более чуткие, которых сразу передернуло выспрашивание Тулинского, обращенное к Шуцкому, совсем потемнели, словно увидели что-то очень печальное перед собой.
Они не ошиблись.
Так же спокойно, грустно и четко Шуцкий проговорил:
— Конечно, общество офицеров должно быть удовлетворено извинением его высочества. Он этим только смыл оскорбление, нанесенное его поступком офицерскому званию и чести… Но для моей чести — этого мало! Я опозорен лично и прошу личного для себя удовлетворения!
— Те… де… так… что же? — совсем опыленный, машинально спросил Тулинский. — Уж… не хотите ль вы стреляться с великим князем?!
— Так точно, генерал. Разумеется, хочу!
Все переглянулись, Тулинский раза два раскрыл и закрыл рот, потом сообразил, что ему надо говорить и отрезал:
— Вы арестованы, господин капитан. Пан адъютант, возьмите его шпагу и отведете под своим присмотром на квартиру!
— Вот как! Что же, вот моя шпага, — также спокойно продолжал Шуцкий. — И я последую за моими честными дорогими товарищами! Жалею только об одном: умру, не получив удовлетворения моей поруганной чести!
Вручив шпагу адъютанту, он послал привет всем товарищам, которые стояли потрясенные, взволнованные сильнее прежнего, и вышел вместе с адъютантом, у которого тоже стояли слезы на глазах.
Едва Шуцкий скрылся за дверью, офицеры быстро преградили путь Тулинскому, который совсем растерялся и хотел скорее скрыться. Его окружили толпой: горячо жестикулируя, говоря все разом, зашумели офицеры:
— Да как вы могли генерал!.. Что это такое! Провокация… Толкаете на верную смерть!..
— Позвольте, господа! Я… я только был послан… Я исполнил волю…
— Неправда! Ложь! Для этого вас не могли послать! Вы не поняли великого князя… Или сами зашли слишком далеко… Вам не то поручили! Разве можно было задавать ему, поруганному, такие вопросы, когда мы все постановили, что дело кончено и забыто… Он не мог иначе ответить! — проговорил старик майор.
— Конечно, он должен был дать именно такой ответ! — подтвердили остальные. — Подите к князю… Доложите… Пусть скорее примет меры…
— Да, да, товарищи. А я буду при нем неотлучно, пока не кончится дело! — вызвался поручик Хелмицкий.
Тулинский, совсем раздавленный, успокоительно махал только руками, бормотал торопливо, покорно:
— Иду… бегу… сейчас… все устрою…
И скрылся, поехал к Константину. Перед рассветом полковой командир злосчастного 3-го полка был разбужен своим вестовым:
— Прошу встать, пане полковник! С квартиры пана капитана Шуцкого денчик ихний прибег, бо пан поручник Хелмицкий пану полковнику здоложить приказували, що пан капитан себя мало не удавил!
Моментально вскочил разоспавшийся толстый пан полковник, кое-как оделся, на ходу уже пристегнул палаш, едва дождался, чтобы подали экипаж, и поехал к Шуцкому.
В небольшой, просто обставленной квартире полковник застал еще целый переполох.
Доктор, за которым послали раньше всего, уже успел привести в чувство полуудушенного Шуцкого, и собирался уходить. Квартирная хозяйка, набожная старушонка, лежала перед распятием в своей комнате и громко читала молитвы об отогнании злого духа…
Денщик бегал взад и вперед и с помощью толстой прислуги-хохлушки давал воды, прибирал разбросанную постель, мокрые простыни, совался всюду и большей частью невпопад.
Шуцкий, еще с красным, потемневшим лицом, но уже спокойнее, ровнее дыша, лежал на полу, с грудой подушек под головой.
Он узнал вошедшего полковника, но чтобы не отвечать на расспросы, закрыл глаза, как будто уснул.
— Что тут было? — обратился полковник к поручику Хелмицкому. — Отходили? Спасли? Слава пану Иезусу… Как это он?.. Как вы проглядели?..
— А уж и сам не понимаю, — негромко, возбужденно заговорил поручик, только теперь немного приходя в себя. Он еще весь дрожал и был красен от возбуждения. — Сидели мы, толковали… Он казался совсем спокоен. "Лягу, — говорит, — отдохну до утра…" Я еще подумал: кажется, ничего нет, чем бы мог он убить себя. Пистолеты, кинжал — заперты… Веревки не видно нигде… Я у двери присел, дверь запер, читал, когда он прилег уже на постели на своей… А там сморило и меня… Задремал. И сквозь сон слышу собака будто вошла в комнату, сердито так ворчит. Я вскочил лампа горит, никого нет… А ворчанье или хрип громкий слышится с постели. "Ишь, думаю, как сладко уснул капитан!" Глянул — и обмер. Завязал он галстук свой концом за гвоздь над кроватью… Другим затянул шею и повис… Совсем уж потемнел, хрипит так страшно… Я позвал на помощь… Сам держу, денщик, хозяйка узел распустили… сняли его… положили сперва на постель, за доктором… Сами растирали, в чувство приводили… Потом — доктор… Отходили понемногу… Вот видите, дышит ровнее и заснул, кажется… Что теперь делать? Надо еще кого-нибудь, пусть меня сменят. Я уж не надеюсь на себя. Особенно после этой ночи…