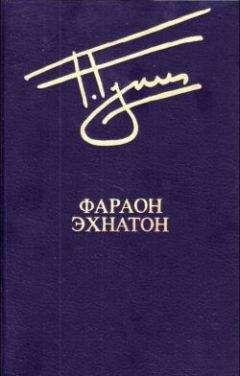Лев Жданов - Цесаревич Константин
— И они? Что они?..
— Они все молчали. Только мой граф, генерал Красинский, как шеф, нашел в себе духу взять у меня шпагу и… послать домой, под арест… По дороге я и зашел теперь сюда… А потом…
— Что? Что потом?
— Потом соберутся товарищи. Я им скажу, что больше рассчитывать не на кого и не на что… Бросим жребий… и начнем умирать.
— Владек!
— А как же быть по-твоему, Анельця? Молчишь?.. Так и молчи… Потом будешь плакать. Слушай, чего жду я от тебя, сестра. Конечно, и наша смерть не вольет жизни в этих истлевших, ходячих мертвецов! Если они молчат теперь, будут молчать и после, чтобы наша кровь не была брошена им в лицо, чтобы их не обвинили в нашей гибели… Они не решатся все высказать ему, виновнику нашей смерти… Будут лгать, выдумывать, клеветать на мертвых, как привыкли это делать с живыми… Но пусть мой голос после смерти прозвучит в ушах этого ослепленного самодовольного человека… Пусть он узнает! Ты дружна с Жанетой. Он часто, чуть не каждый вечер бывает у нее… Она совсем очаровала этого… Ну, не надо выходить из себя. Теперь счеты другие пойдут… без проклятий, без брани… Вот я и пришлю тебе письмо… когда настанет час… Ты попроси ее, пусть вручит это письмо своему поклоннику, заставит прочесть… Пусть она скажет ему все, что слышала ты теперь от меня, Анельця. Ты обещаешь?
— Да, обещаю… Но, Владек, неужели?
— Постой, не мешай. Обо всем остальном — после… Теперь надо самое важное. Так вот, сестричка, во имя отчизны, веры святой нашей… Во имя твоей любви ко мне обещаешь ли все исполнить, как я прошу? Да?! Хорошо. Теперь я спокоен. Пора идти… И только скажи еще ей… скажи Жанете, что даже умирая, я… Впрочем, нет, прости! Я больше ни о чем тебя не прошу… Отдай письмо… и все скажи, что слышала. Прощай…
Тихо коснулся он губами до помертвевшего лица девушки, до ее похолодевшей руки, прислонил ее, почти бесчувственную, к стволу дерева, у которого стояла скамья, и быстро ушел.
Долго в полуобмороке сидела девушка, потом опомнилась, огляделась, вскочила, но не могла сделать ни шагу по тому направлению, куда ушел Велижек.
Потом ноги ее сами подкосились, она припала головой к скамье и тихо стала повторять, глядя вдаль сухими воспаленными глазами:
— Боже мой! Да что же это? Что же это… Ведь я с ума сойду…
В три дня пять человек офицеров покончило с собой: братья Трембинские, Бжезинский, Герман и Велижек наконец…
Взволнованный, захваченный всеми этими трагическими событиями, о которых ему давали совершенно неверные сведения, цесаревич выходил из себя, созывал на совет русских и поляков из тех, кого считал своими друзьями и сторонниками русских. Но страшная загадка, вдруг выросшая перед глазами, мало выяснялась. Кровь лилась и хотя Константин чуял, что он замешан во всем этом, не мог уяснить: как и в какой мере?
Дня три со всеми печальными тревогами и хлопотами он даже не мог, вопреки обыкновению, бывать у Бронниц, где аккуратно просиживал от 8 до 11 вечера, как и в первый визит, во всей парадной форме, с регалиями и орденами.
Цесаревич уговорил Жанету позировать для большого портрета и каждый день художник-француз, очень даровитый, хотя еще и мало известный покуда мастер, приходил и часа два-три работал над портретом, обещающим уже и теперь дать прелестное изображение этой очаровательной девушки.
Когда Константин вошел в гостиную, где обычно происходил сеанс, он нашел там одного живописца, смущенного, укладывающего свою палитру, вытирающего кисти. Мольберт с портретом стоял занавегданный в стороне.
— Что такое? Что случилось? Мне ничего не сказали, когда я пришел. Графиня больна?
— Не знаю, ваше высочество. Графиня была здесь, по обыкновению, но объявила мне, что сегодня сеанса мне не даст… чувствует себя не в духе. Я уже собирался откланяться, когда графиня, заслышав ваши шаги, попросила меня встретить ваше высочество и сказать вам, что она сейчас явится, что…
— Хорошо, хорошо, я подожду. Лишь бы она была здорова… А как за эти дни подвинулась работа?
Поспешно, угодливо кинулся художник, передвинул мольберт к широкому окну, из которого лились лучи весеннего дня, и осторожно раскрыл холст.
На поясном портрете Жанета была зарисована в светлом, декольтированном, но не слишком, легком платье, рукава которого были собраны на плечах и скреплены крупными жемчужинами. Двойная нитка крупного жемчуга, привезенного нарочно для этого Константином, оттеняла своим переливчатым блеском розовато-млечный оттенок груди и шеи девушки. Слегка распущенные локоны падали по сторонам лица, скрываясь под белым легким покрывалом, вроде подвенечной фаты или прозрачной, кисейной мантильи, вроде тех более плотных кружевных, какими окутывают голову и стан кокетливые испанки.
Особенно хорошо удались художнику почти законченные глаза красавицы с их открытым, ясным и задорным взглядом, губы, тронутые не то грустной, не то ласковой улыбкой, и общее выражение лица, полное вешней свежести, женственной мягкости и покоя.
Залюбовавшись, Константин не слышал, как отворилась дверь, беззвучно ступая по ковру, подошла Жанета, знаком пригласила художника уйти и остановилась в трех-четырех шагах за плечом цесаревича.
Он вдруг словно почувствовал на себе взгляд ее, быстро обернулся, радостно протянул руки, начал было громко, радостно:
— Дорогая гра…
Но сейчас же остановился, смолк, уставился на нее изумленным взором. Девушка стояла перед ним, бледная, грустная, словно сразу постаревшая на десять лет. Темное, почти траурное платье, против обыкновения, было застегнуто до горла, не обнажая шеи, как это всегда делала Жанета, знающая цену своей лебяжьей шейке и красивым плечам.
— День добрый, ваше высочество. Я думала, что вы придете… Мне сердце говорило… Хотя вы давно уж не заглядывали к нам…
— Да, виноват, простите. Эти три-четыре дня… Но вы слыхали: такие тут вещи… Пять самоубийств в этом несчастном 3-м полку за трое суток… Голова кругом идет. И толком я добиться не могу: что это значит? Один — одно, другой — другое… А я…
— Что же вам говорили, мосце ксенже, по поводу этих… событий? Не секрет?
— Нисколько, — оживленно заговорил Константин, до такой степени занятый и событиями прошлых дней, и печальным видом любимой девушки, что даже не обратил внимания на ее странный прием: она сама не садилась и его не просила сесть. А в одной руке держала крепко зажатым что-то вроде сложенного письма.
— Вот я вам в двух словах скажу… Одни уверяют, что это в пику мне! За то, что я слишком с ними строг! Какая нелепость. Из-за этого пулю в лоб. Вот вздор… И я не строг… Я душу им всю отдаю и требую внимания к делу. Но это пустое. Они бы могли ко мне прийти, сказать… Эти сплетни не говорят мне в глаза, а так, стороной я слышал, из третьих уст… От своих уж, от русских, которым говорили поляки… Да мало ли что толкуют подлые, завистливые люди! Вон, про сестру Катерину да про императора Александра тоже негодяи сколько всякого болтали… Грязи и мерзостей… А меня моя женушка ославила по всей Европе, что я весь болен, да еще как… Будто оттого она и бросила меня; штука в том, что у нее там новый домок завелся… Люди всегда лгут… Ну, можете ли вы допустить, чтобы оттого и пять человек себе пулю в лоб? Из-за моей строгости?! А?
Подождав минутку и не получив ответа, Константин уже не так уверенно и громко продолжал:
— Ну, еще уверяют, какая-то темная история… Какой-то клуб, не то политический, открытый раньше времени… не то просто бездельники играли, распутничали и до того зарвались, что пришлось бы перед законом отвечать… Так они… Но я не совсем допускаю… Там были такие, которых я хорошо знал… Особенно, Велижек. Славный парень…
— Он вам прислал письмо, мосце ксенже…
— Письмо? С того све… Впрочем, нет, я не то хотел… Почему вы? Через вас? Это? — принимая пакет, спросил Константин.
— Когда вы его получили?
— Сегодня утром, когда он умирал…
— Вот как? А скажите?..
Он не докончил вопроса и, поглядев на конверт, спросил тихо:
— Позволите прочесть?
— Да, да, прошу вас… Я еще должна сказать вам кое-что раньше… Вот что он просил мне передать вместе с этим письмом.
Тихим голосом, словно помимо воли или в гипнотическом сне передала Жанета все, что поручил Велижек сказать Анельце.
Оба продолжали стоять у окна, за которым сияло солнце, наливалась на деревьях зелень, текли вешние ручьи по бокам улиц. Но здесь, в комнате вдруг как будто потемнело и какие-то знакомые, бледные тени зареяли в воздухе.
Константин стал медленно пробегать глазами письмо Велижека, ступив шаг к окну, как будто в самом покое не хватало света, чтобы прочесть эти строки, писанные четким, твердым почерком, совсем как рапорты, которые писал постоянно капитан по должности адъютанта.
Ни одна дрогнувшая буква или перечеркнутое слово не выдавали, что это письмо — предсмертное послание человека, своей рукой загасившего свою жизнь.