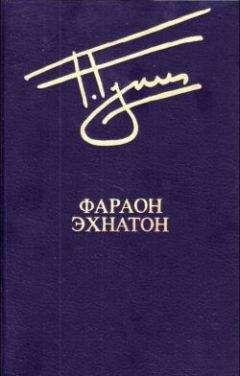Лев Жданов - Цесаревич Константин
Тихим голосом, словно помимо воли или в гипнотическом сне передала Жанета все, что поручил Велижек сказать Анельце.
Оба продолжали стоять у окна, за которым сияло солнце, наливалась на деревьях зелень, текли вешние ручьи по бокам улиц. Но здесь, в комнате вдруг как будто потемнело и какие-то знакомые, бледные тени зареяли в воздухе.
Константин стал медленно пробегать глазами письмо Велижека, ступив шаг к окну, как будто в самом покое не хватало света, чтобы прочесть эти строки, писанные четким, твердым почерком, совсем как рапорты, которые писал постоянно капитан по должности адъютанта.
Ни одна дрогнувшая буква или перечеркнутое слово не выдавали, что это письмо — предсмертное послание человека, своей рукой загасившего свою жизнь.
Как будто бы с черновика, с особым старанием были переписаны все три страницы убористого письма.
Он писал:
"Мне очень бы не хотелось, Ваше Высочество, беспокоить вас своим письмом и в последние, решительные минуты, перед тем как душа моя перейдет в вечность, подымать в ней злые воспоминания, будить враждебные чувства, тесно связанные с содержанием моих строк.
Но иначе нельзя. Постараюсь только быть краток и возможно сдержан, наименее раздражителен, как прилично человеку моего круга и христианину в эти великие часы, у преддверия смерти, кто знает: уничтожения полного или жизни вечной и ясной, какой мы не знаем на земле?
Но не о том будет речь.
Я пятый по счету. Потом последует остановка. Все, кто дал клятву, подобно нам пятерым, подождут: какие последствия вызовет смерть пятерых молодых честных воинов, оставляющих на земле так много дорогих им людей… Кидающих горе и следы в пять семейств, где есть старики и старухи, матери и отцы, жены и невесты и даже малютки-дети, как у Бжезинского… как у старшего брата Трембинского… Но что думать об этом! Все кончено, все решено… Исполните же, если можно, мою, нашу последнюю просьбу!
Правда, я никогда не считал себя вашим другом, но всегда надо сказать по справедливости, а в эту минуту и подавно: вас именно — врагом своим, врагом своей отчизны я не полагал и полагать даже теперь не могу, вельможный великий князь, русский цесаревич, наследник императора-брата, конечно, и короля. Значит король в будущем моей отчизны… Что же вы за человек? Не дурной, но далекий от совершенства! Способный на самое прекрасное проявление души, а в то же время способный служить игрушкой в руках шептунов и грязных, жадных интриганов… Позволяющий себе доходить до самозабвения в припадках самовластного гнева, необузданной ярости, которая предосудительна в последнем поденщике, не только в наследнике стольких корон! Простите, что говорю более прямо, даже, пожалуй, резко, как не принято говорить с человеком, стоящим выше по сану, с начальником своим, к тому же старейшим по годам. Но я сейчас заплачу своей кровью и за свои… и за ваши вины, высоковельможный князь. Да, и за ваши… как жертва искупления. Пусть же это послужит мне извинением. Теперь — наша просьба: пощадите себя и нас!
Да, и себя, Ваше Высочество! Я считаю долгом христианина и солдата предупредить вас, чтобы вы не доводили моих соотечественников до отчаяния, которое легко может довести кого-либо из них до преступления, от коего я отказался по зрелом обсуждении.
Вы меня понимаете, конечно. Я щадил столько же вас, сколько и свою отчизну, на которую тысячу бед может навлечь даже справедливое зло, даже акт возмездия в отношении вас!
Но не все благоразумны и самоотверженны, подобно мне и моим четверым погибшим товарищам. Мы не грозим вам, а остерегаем. Теперь иные времена, и Муций Сцевола, положивший руку на костер, только вызовет насмешки, будет посажен в тюрьму или в дом умалишенных, а его друзей будут разыскивать и казнят… Поэтому мы даем большее доказательство решимости нашей и наших друзей: жертвуем собственной жизнью… Берегите же свою жизнь, не топчите нашей чести, не глумитесь над нами за то, что мы готовы честно служить новому знамени возрожденной отчизны, готовы дружески слиться с нашими братьями с берегов Москвы… А иначе!.. Повторяю: это не угрозы, мольба, предостережение… Вы должны понять. Кровь, которая лилась из моих четырех товарищей, моя кровь, которая брызнет сейчас из черепа, это крепкая порука и печать для наших слов. Вслушайтесь, помните… и мы будем рады там, куда уходим теперь, что жертва наша не напрасна, наши юные жизни погибли не зря!
Капитан Владислав Велижек".
Еще в половине письма цесаревич опустился в кресло у окна и теперь, сидел там, глубоко-задумчивый, неподвижный, словно забыл, где он, кто стоит тут рядом, словно гений печали, воздушный и темный, как летняя безлунная ночь.
— Какой ужас! — наконец проговорил почти беззвучно Константин, сделав движение рукой, которая давно вместе с письмом упала на колено, но не хватило сил поднять руку, снова перечесть последние строки.
Ужас сейчас ощущался им двоякий. Ясно представил себе Константин, что пережили все эти люди, один за другим покончившие с собою в течение трех дней, как жертвенные агнцы, без звука, без жалобы, без надежды на спасение в последнюю минуту… Страшно ему стало и за собственную жизнь. Ведь и он, оказывается, также обречен, как жертва… И только ему дана отсрочка. Эта прекрасная жизнь, небо, земля, люди, милая девушка, надежда и вера, радости жизни и упоение успехами в любимом деле — все это может быть порвано одним ударом чужой, враждебной руки. Может быть бессмысленно отнято по воле кого-то другого… такого же человека, как и сам он, Константин… Нет, даже не такого, а совсем незначительного… безрассудного юнца-фанатика, который помолится Милосердному Христу, освятит нож у ног Всеблагой Матери Его и, как новый Равальяк, заколет его, цесаревича, считая, что совершил доброе, святое дело, спас отчизну от угнетателя…
Освободил Польшу от тирана…
"Глупцы, они так думают… Положим, им тяжело терпеть строгость… Но чтобы из-за этого решиться убивать и себя… и других?! Нет, русские больше христиане и более мудрые люди, чем эти поляки… Они терпеливы и кротки… Они…"
Но тут мысли Константина снова были прерваны новым вопросом, опалившим ему мозг: как же быть теперь? Смягчиться… пойти на уступки, выказать малодушие? Значит, унизить свой авторитет, ослабить значение русского имени здесь, в кичливой стране… Или по-прежнему поступать, как подсказывает ему его привычка, его чутье и заранее обдуманный план действий?..
Но тогда он сам умрет… будет убит, зарезан… Сомнений быть не может.
Константин так ясно представил себя лежащим на земле, с ножом, торчащим из груди, залитой потоками крови, что ему стало дурно.
— Воды! — попросил он, совсем не помня, к кому обращает свои слова.
Внимательно следившая за ним, Жанета быстро подошла к графину, стоящему у дверей на столе, налила и подала воды.
Он только тут вспомнил, что кроме него и Жанеты в комнате нет никого. Принимая воду, осторожно коснулся губами руки девушки, отпил, отставил стакан и спросил, предлагая ей письмо:
— Вы знаете содержание, графиня?
— Догадываюсь… Не надо, не показывайте… Оно писано вам, так пускай…
— Вы правы. Боже мой, значит, меня обманывали, когда уверяли, что эти смерти случайные совпадения… И когда я указал на голоса, которые говорили иное, мне толковали, что кучка интриганов хочет воспользоваться случаем, напугать меня, разжалобить, принудить к уступкам, которые будут только во вред и полякам, и нам…
— Теперь вы сами видите, князь…
— Вижу, вижу… Какой ужас! Но что же делать?
— Теперь правда открылась. Что же трудного осталось, не понимаю?
— Для вас, для женщины, для человека частного, для польки к тому же, конечно, все ясно. Но я… брат вашего короля, представитель русской власти, начальник всех войск края…
— И тоже человек и христианин, ваше высочество, не правда ли?
— Ах, вот что! Ну, благодарю вас. Правда: я спрошу свое сердце, спрошу свою веру и больше никого! Дайте мне ваши милые руки, я должен поблагодарить вас…
— За что?
— За то, что вы были возле меня… за то, что вы…
Он оборвал, встал, взял ее обе бледные холодные руки, коснулся их почтительно губами.
— Пока — прощайте. До завтра! Сейчас я ничего не могу сказать вам… Подумаю… Вы узнаете… До завтра!
Необычайное волнение не только среди офицеров 3-го полка, но среди всех военных, поляков и русских, даже в целой Варшаве вызвал приказ, отданный с вечера: собраться всем офицерам 3-го полка на другой день у генерала Тулинского. Капитаны Шуцкий и Гавронский, отставка которых еще была не принята, также приглашались в это собрание.
К назначенному часу все были в сборе. У каждого на руке траур по пятерым погибшим товарищам.
Почти у всех были бледные лица, глядели все решительно и мрачно. Это молчаливое, многочисленное собрание как будто думало одну думу, трепетало одним напряженным чувством и имело грозный, внушительный вид.