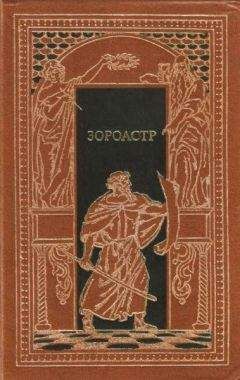Владислав Бахревский - Сполошный колокол
— Самим! — поддакнула площадь, и снова ударили колокола, одобряя речь Томилы.
Донату надоело быть в тени, и он приказал отряду:
— Дело сделано — во Псков!
И снова он ехал впереди, за ним отряд, а позади пленные.
Уговоры
Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин знал, ради чего он мечется по псковским уездам.
Здесь, в деревеньках, он трудился не щадя живота, ибо труд его был на виду. На него надеялись не только во Пскове, те, кому ныне рта не мочно было открыть, но и в Москве, в самом Кремле.
Но Ордин-Нащокин не грозил, не докучал речами.
В Немове подъехал к двум спаленным избам.
— Кто погорельцы?
— Чего тебе? — спросили мужики мрачно.
— Скот цел?
— Братья твои, дворянчики, сожрали скот.
— Вот вам деньги на покупку двух коров.
Мужики опешили:
— От кого ж милость такая?
— От государя. Каждая пропавшая изба — государю слезы, а каждая обнова — улыбка.
Деньги Афанасий Лаврентьевич дал свои. Корысти ему от подаяния никакой, но ведь надо было перехитрить мужиков.
— Избы вам сей же миг начнут ставить.
Люди Ордина-Нащокина принялись за работу, а сам он пошел в тень огромной липы, сел на пенек и стал читать Псалтырь.
Постепенно вокруг него собралось все Немово. Афанасий Лаврентьевич с мужиками поздоровался, и те, удивленные вежливостью и неспесивостью знаменитого псковского дворянина, осмелели и стали спрашивать.
— А скажи-ка, — задали ему коварный вопрос, — правда ли то, что в немецком городе Нейгаузине на городовых воротах лист прибит? На листу том, сказывали, королева свейская написана. Как живая сидит, и с мечом, а под нею, на коленях, праведный государь наш Алексей Михайлович. Он-то, верный человек говорил, бежал из Москвы недель с тринадцать уж как. Сам-шост. Ему на Москве-то подкатили под палату его царскую зелья, да жена боярина Морозова спасла.
Встал Афанасий Лаврентьевич, книжицу закрыл, слушает со вниманием, сам ни слова.
А мужики разошлись рассказывать:
— Был и другой слух. Будто праведный государь не у свейской королевы, а в Варшаве, у короля. Король-то царя нашего тихого любит, как на солнышко красное на него глядит. И была будто бы от него весть Пскову, чтоб стояли псковичи против Хованского крепко. Государь-то скоро придет Пскову на выручку с казаками донскими и запорожскими.
И еще говорили:
— Был у нас проездом литвин с четырьмя бочками пороха. Торговать во Псков ехал. Говорил тот литвин, что на Москве от бояр измена. Псков за правду стоит. Государь-то де в Литве ныне. Наймует людей и хочет идти с ними Пскову на помощь.
Ордин-Нащокин поклонился народу и спросил:
— Есть ли поп в селе?
— Есть, — ответили с любопытством.
— Вы ему верите?
— Верим! Наш он человек. Заодно с нами всегда стоит.
— Пусть тогда придет к нам с крестом.
Поцеловал Афанасий Лаврентьевич крест немовского попа при всем немовском народе и сказал:
— Недобрые люди сбивают вас с пути праведного. Был я неделю тому назад в Москве, целовал руку государю. Государь плачет о псковском великом воровстве. Псковское воровство полякам да шведам на руку. Оттого и смущают вас литвины змеевитыми речами. Враг за доброе не похвалит. Враг хвалит за разлад наш промежду себя.
Знаю, кто об этих речах воровских печется. В Литве ныне сидит вор Тимошка Анкудинов. Он себя нарек сыном царя Василия Шуйского, а сам вор вологодский. В Москве жил, в подьячих. Спалил, сатана, дом с женою, бежал к полякам и теперь мутит праведных людей.
Не кричал Афанасий Лаврентьевич, на все вопросы отвечал толково и честно. Слушали его крестьяне и думали: «А ведь и впрямь — гоже ли творить то, что творится на Псковской земле? Кому от того прибыль? Земля скуднеет, вспахана кое-как. Урожай хил будет. Скот перевели. Никто честно не работает. Придет Литва — не устоять перед нею. Разброд кругом. Недоброе дело затеяли ярыжки псковские».
Хорошая ночь
Ночь была темная и теплая. Казалось, пойдет дождик, все ждалось чего-то, душа томилась.
Под одеялом было жарко, в комнате тесно. И, не в силах более терпеть духоту и тяжесть, Гаврила вдруг сказал Варе:
— Пошли на волю, подышим!
— Пошли, — тут же согласилась Варя.
И Гавриле стало хорошо — и духота мигом забылась, и тяжесть пала с плеч. Вот она, верная жена, все понимает, все знает, любую прихоть стерпит, только люби, не обижай. Ну а коли на нее найдет — не перечь, дай дурости выйти наружу вон, чтоб легко жилось.
Тихонько, мать бы не разбудить, выбрались они из дому. А Пелагея не спала. Все она слышала и радовалась: вон какую умницу сыну присватала! Судьба его ждет — лучше и не думать какая. А Варя не робеет, знает, что всего-то для них одна весна уготовлена и лето — одно, а вот осени быть ли, не быть?
Гаврила и Варя пошли за дом в огород. Сели на бревнышко. И затаились. Тихо было во Пскове. И на всей земле было тихо. И в небе. Прижалась Варя виском к щеке Гаврилы доверчиво. И Гавриле спокойно стало, силу в себе почуял. Положил Варе руку на плечо: никто, мол, и никогда не посмеет тебя, любимая, обидеть.
И подумал о Пскове, и сказал себе: никто и никогда не посмеет, город мой, обидеть тебя. И все люди показались ему детьми родными. А Варя сказала ему вдруг:
— Мальчишечку хочется, сыночка твоего, Гаврилку.
Как пушиночку поднял Гаврила на руки Варю. И сел.
Голова закружилась — захватило дух.
И поклялся в тот миг про себя Гаврила суровой клятвой: стоять Пскову твердыней, покуда государь не послушает голоса людей меньших. Уж коли жить, так всем, коли хлеб жевать, так чтоб у каждого кус был. Уж коли суд, так суд по вине, а не по деньгам.
Дождик пошел. Капли падали редкие, большие. Не хотелось прятаться от такого доброго дождя, и они не ушли и мокли себе счастливо. И казалось им, что на дожде этом пошел расти их будущий сынок.
Не ушел от дождя в шалаш и Донат. Сидел он возле костра. Слушал, как шипят на углях капли, и думал о славе. В первый раз страшно ему стало. Вон какой теперь он большой человек, над сотниками воевода — не то что над пятью десятками. Но ведь Псков не Москва. Придет замирение, и снова станешь никем, да чего там — кабы голову напрочь не срубили. С Афанасием Лаврентьевичем свидеться бы. Сделать для него дело, как Пани просит, чтоб и ему польза, и Пскову бы не во вред. Спешить надо! Коли плохо пойдут у псковичей дела, таких охотников у думного дворянина будет на выбор. Скорее к Пани. Дождик шел сильней и сильней, и Донат успокаивался. А думал зло: «Запутали совсем. Каждый на свою сторону тянет, а жизнь — она такая: кто кого? Ну да лучше я их, чем они меня».
В ту ночь у Пани был гость. Служанке было приказано не запирать дверь, и в полночь дверь отворилась. В доме темно, ни звука. Гость спросил:
— Где мой голубь?
Ему ответили сверху:
— Голубь летит к другу.
На верхней площадке лестницы зажгли лампаду. Лампада была на цепочке, ее опустили вниз. Она замерла возле лица пришедшего из ночи. Это был Ульян Фадеев.
Пани сошла к нему:
— От Афанасия Лаврентьевича. — Подала стрельцу две грамотки: — Эта для Мошницына, а эту передай в руки Гавриле Демидову. Сам передай.
— Если я передам письмо Гавриле, то мне надо в тот же миг бежать из города. Иначе меня казнят.
— Ну а если Гаврила Демидов согласится с тем, что ему писано?
— А если не согласится? Чего от старосты хотят? Чтобы он открыл ворота? Гаврила верен Пскову по гроб.
— Твое дело передать письмо, а там поступай как знаешь.
Ульян поклонился Пани и ушел, осторожно затворив за собою дверь.
Гаврила идет по городу
Утром Варя сказала Гавриле шепотом:
— А ведь, кажись, и вправду у нас будет дите.
Екнуло у Гаврилы сердце, глаза слезами застлало. Смахнуть слезы стыдно, гоже ли мужику плакать, а не смахнуть — не видать ничего.
Проглотил Гаврила кружку кваса — и вон из-за стола. Варя испугалась:
— Куда же ты?
А он обнял ее, поцеловал — и на порог, с порога и ответил:
— Для сыночка нашего пойду потружусь, Варюша! — И убежал.
Правду мать говорила: холостой парень того не разумеет, чего знает отец семейства. Будто кто Гавриле глаза подменил. Идет, на детишек поглядывает: все хороши; и вдруг куча мусора, а в мусоре человек пять мал мала копошатся, чего-то выбирают и едят. Горло горечью забило. Увидел Гаврила оборванных, бледненьких, как рассвет зимний, серых, как сумерки. Вспомнилось Гавриле, как, придя во Всегороднюю избу, Ульян Фадеев — душа человек — требовал забрать у дворян всю одежду лишнюю, все деньги и все продовольствие, а все забранное бедным отдать.
После той речи полюбили во Пскове простые люди Ульяна. Только тогда ни Гаврила, ни Томила Слепой, ни тем боле степенный Максим Яга не поддержали Ульяна. Дворян да богатых посадских людей в городе было много. Тронешь их — огромную силу против себя направишь. Не решился Гаврила на ссору с дворянством. Но нужно, нужно помочь бедным людям.