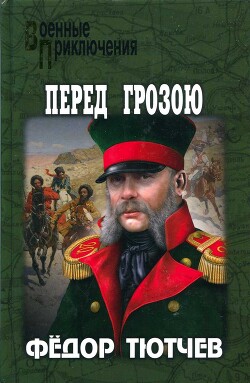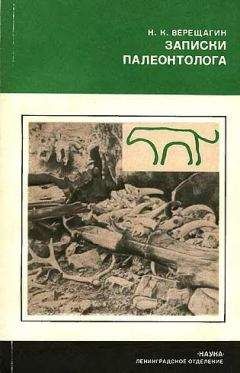На скалах и долинах Дагестана. Среди врагов - Тютчев Федор Федорович
— Я женщина, и то давно предсказывала тебе это, а ты не верил. Почему же, если ты теперь сам видишь скорый конец Шамиля, почему же не уходишь, пока не поздно?
— К чему? Или ты думаешь мне так жизнь дорога? Если бы ты осталась жива, я еще подумал бы устроиться как-нибудь по-новому, по-хорошему, а теперь для чего и голову морочить себе… Во всю мою жизнь я только и любил двух людей — отца моего да тебя, Дуняша. Отец умер, ты умираешь, стало быть, и мне пора… Когда окончательно уверюсь, что моя затея прогорает, — брошусь на штыки, и вся недолга…
— Нет, это не так, — слегка качнула головой Дуня, — совсем не так… Смерть без покаяния, без молитвы — нехорошая смерть… Вот хотя бы про себя сказать… сама смерть зову… рада ей… а в то же время горько на сердце, ох, как горько… Горько, что умираю без покаяния, без причастия… Кабы батюшка мог прийти… благословил бы… напутствовал бы, я и не знаю, как бы рада была; тогда мне смерть, словно мать родная, желанная показалась бы… правду говорю… а теперь? Как подумаю, что ожидает меня не могила христианская, молитвой освященная, а яма, в которую зароют меня как падаль, без креста и молитвы, без свечей и ладана, даже без савана, так сердце и рвется на куски… О, думала ли я когда о таком конце!.. Некому и отходную прочесть… Ты ведь, чай, не умеешь? — спросила она с тревогой и затаенной надеждой.
Николай-бек отрицательно покачал головой.
Дуня тяжело вздохнула.
— Ну, пусть, как Богу угодно, он видит… не по своей вине… Его святая воля… Помолюсь сама, как умирать буду… я и то все молюсь… лежу одна-одинешенька и все молитвы читаю… Авось Бог сочтет их за что-нибудь.
При последних словах из ее глаз выкатились несколько крупных, тяжелых слезинок и медленно поползли по щекам.
Николай-бек почувствовал, как в горле его что-то защекотало, и он поспешил отвести от лица Дуни свой затуманившийся взгляд.
"Вот она, казнь за все мои злодеяния, — думал он, — началась… что-то еще ожидает впереди…"
В эту минуту ему вспомнились несколько таких же полонянок, захваченных им и его шайкой в набегах на русские поселки и проданных в Турцию и Персию.
Сколько их было за все пять лет, он наверно не помнит. Штук десять, если не больше. Можете быть, некоторые умерли, и, умирая так же вот, как и Дуня, в чужой басурманской стороне, без покаяния и духовного утешения, они проклинали его холодеющими устами, проклинали в последние свои минуты… Дуня не клянет, она любит, она давно простила, но и то каждое ее слово бьет по его душе, как удар молота, в каждом — ему слышится грозное обвинение за непоправимое зло, какое он нанес ей.
Русские под начальством генерала Фези быстро подходили к Ашильтам. После семнадцатидневного марша, беспримерного в летописях войны по тем трудностям, какие им приходилось преодолевать, русские войска 29 мая заняли Хунзах, столицу Аварии. Жители, над которыми Шамиль, как злой коршун, уже распростер было свои крылья, встретили русских радушно, как своих спасителей. Укрепив Хунзах и оставя в нем гарнизон из 5-ти рот при 4-х орудиях, генерал Фези, дав своим войскам всего только пять дней отдыха, 3 июня двинулся на селение Ашильты с расчетом сначала разгромить этот аул и затем взять и разрушить стоявший за ним и считавшийся неприступным аул Ахульго, резиденцию самого имама, где находились вся его семья, казна, боевые запасы и склады оружия.
Не желая подвергать Ашильты и Ахульго бедствиям блокады, Шамиль, собрав цвет своего воинства, занял аул Тилитлю в том расчете, что генерал Фези, оставив в стороне Ашильту, нападет на него. Но Фези был опытный кавказский вояка и не пошел в расставленную ему Шамилем ловушку. Он прекрасно понимал, что штурм Тилитля не принесет ему никакой пользы, а только понапрасну выведет из строя множество людей, чем ослабит и без того не сильный отряд, которым он командовал и которому предстоит совершить еще много трудных подвигов. Выходя из этого соображения, Фези, не обращая внимания на Тилитли, продолжал свое наступление к Ашильтам, а чтобы обеспечить свой фланг от нападения Шамиля, выставил против него подполковника Букчиева с тремя батальонами, пятью орудиями, командою казаков и казикумыхскую и мехтулинскую милицию. Видя, что русские, заняв позицию перед Тилитлей, не предпринимают, против своего обыкновения, никаких нападений, Шамиль сначала недоумевал, и только когда посланные во все стороны лазутчики привезли ему известия о фланговом движении генерала Фези прямо на Ашильту, имам понял, что он одурачен. Он пришел в ярость и тотчас же отдал приказание двинуться на отряд Букчиева, чтобы, сломив его, напасть на тыл генерала Фези. Не решаясь днем атаковать хорошо защищенную позицию русских, горцы дождались ночи и с 7-го на 8-е стремительно обрушились с втрое большими силами на русских.
Тихо, едва ступая обутыми в мягкие чувяки ногами, словно тени, неслышно скользили передовые горцы в надежде напасть на отряд врасплох, но как ни ловки, как ни осторожны были татары, им не удалось обмануть слух и глаз кавказского солдата. Не успели они приблизиться на оружейный выстрел, как уже были замечены людьми одного из секретов, далеко выдвинутых вперед для наблюдения за неприятелем.
Секрет этот под начальством офицера, поручика Кострова, неудачная любовь которого к Ане погнала его в отряд, состоял из полувзвода охотников, людей бывалых, обладавших тонким слухом и орлиным зрением.
— Слышите, ваше благородие, — обратился к поручику старик взводный с седыми усами, внимательно преклоняя ухо к неприятельской стороне, — слышите, чакалки воют?
— Ну что ж, что воют, и пускай их воют. На то они и чакалки, чтобы выть, буркнул в ответ унтеру всегда угрюмый Костров.
Взводный лукаво усмехнулся.
— Вы думаете, ваше благородие, это чакалки? — тем же шепотом, наклоняясь к самому уху офицера, спросил взводный.
— А кто же, по-твоему?
— А не иначе, как "он", гололобый, значит, — таинственно шепнул ундер, — это передовые абреки перекликаются.
— Почему ты думаешь? — усомнился Костров.
— Тут и думать нечего. Кого хотите из наших стариков спросите, да вот хоть Левчука. Левчук! — чуть слышно позвал взводный. — Поди сюда, — слышишь — воют, кто это будет, как ты думаешь: чакалки или татары?
— Должно, татары, — равнодушно произнес Лев-чук, здоровый детина с лицом круглым и красным, как сайка, — больно ровно перекликаются, у чакалок такой переклички не бывает.
Костров почувствовал то легкое и приятное волнение, какое испытывает человек не трусливый перед еще неизвестной, грозно надвигающейся опасностью. Впереди него, скрываясь во мраке ночи, наполняя его пустоту, двигались толпы врагов. Сколько их — неизвестно, во всяком случае, несравненно больше, чем у него, Кострова. Может быть, они уже близко, каждую минуту из мрака могут выскочить страшные папахи, с шашками наголо и кинжалами в зубах…
Успеем ли вовремя заметить их, чтобы, дав залп, успеть отступить к своим силам, под прикрытие орудий?..
Костров приникает ухом к земле, и чудится ему, словно где-то впереди тихо и осторожно ползет огромная змея, шурша брюхом по камням. С каждой минутой шорох становится яснее… Нет сомнения, это подбираются горцы. Костров оглядывается, хочет предупредить своих, посмотреть, не спит ли кто; но никто не спит и предупреждать некого. Десятка полтора голов приподнялись над землей и, застыв в неподвижных позах, чутко прислушиваются. Глаза широко открыты, дыхание задержано, слух напряжен до последней степени, руки крепко держат шейки ружейных прикладов, а шорох все ближе и ближе… словно тень, колеблясь и волнуясь, проползла по земле…
— Пора, ваше благородие, — говорит взводный, но Костров не столько услыхал, сколько понял по движению губ то, что сказал ему солдат. Он вторично оглядывается. Надо отдать приказание изготовиться к залпу… Но и вторично поручик убеждается, что ему не о чем заботиться. Люди сами все знают. Без команды, без слов, каждый из них уже приложился, навел свое ружье на намеченную им цель и терпеливо ждет команды.