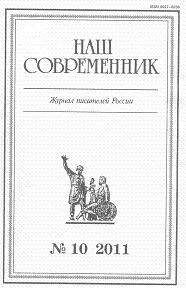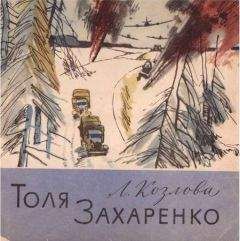Чалдоны - Горбунов Анатолий Константинович
Отец с сыном торопливо оттолкнули шестами груженные сохатиной шитики от берега, запустили моторы и покатились по извилистой голубизне домой.
Вернувшись в деревню, Еремей слег. Напуганная Августина напарила богородской травы, но к питью он так и не притронулся.
Сказал Гавриле:
—
Один пойдешь, сынок, на Ичеру. Торопись, пока речку не перехватило. Сегодня и отчаливай…
—
Поправляйся, отец. — Гаврила пожал Еремею прохладную ладонь и, тяжело ступая по крашеным половицам, вышел из избы.
Вечером Еремей подозвал заплаканную Августину и попросил:
—
Налей, мать, стопочку… И алую рубаху достань.
Глубокой ночью в окно постучала Дуняша:
—
Еремеюшка, вставай! На покос пора, уже птички проснулись…
Он оделся и вышел за ограду. Смеющаяся Дуняша взяла его за руку и повела по росному зеленому лугу навстречу заре.
Нашли его в обед на припорошенном тощим снежком погосте. Притулился к березе, в ногах у могилки Дуняши, уснул непробудным сном.
* * *
Пустой шитик, радостно подпрыгивая и виляя между белых полянок шуги, торопился на далекое Усолье. Килевая доска, прибитая плашмя к днищу, еще ни разу не хватила мели. Растревоженный непонятно чем, Гаврила рассеянно оглядывал мглистые хребты, курил одну за другой папиросы. Речная круть обдавала лицо северным ветром. Кое-где к берегам уже подшило робкий заледок. Семейные артельки рябчиков на кустах, прилетевшие покормиться ивовыми почками, качаясь на ветках, сияли дрожащими голубыми звездами. Не до них сегодня Гавриле, проскочить бы Кривые Протоки засветло. Напротив Орлана внезапно обрушился на тайгу мокрый снег. На три метра против ветра ничегошеньки не видно. Сбросив обороты мотора, Гаврила осторожно причалил чуть выше ручья, где была привязана за пень знакомая лодка.
На сугорке залаяли собаки. Из кустов появился Хайло.
—
Ты, что ли, Гаврила?
—
Я, — недовольно буркнул тот. И добавил мысленно: «Век бы с гобой не встречаться».
—
«Счетовод»-то где? Вроде вместе вниз проплывали.
—
Захворал отец.
—
Был дуб, а стал сруб; время прибудет, и того не будет! — хохотнул Хайло. — Нашел отца…
—
Ну да, ты меня вырастил. — Гаврила в два прыжка одолел крутой подъем.
Залепленные падающим снегом с ног до головы, они, как два белых медведя, уперлись глазами друг в друга: кто кого переглядит? Наконец Хайло отвел свои. Сморщил в усмешке моложавое не по возрасту лицо:
—
Оставайся ночевать. Куда в такую муть? Пошли, пошли в зимовье. Одежду просушишь.
Освещалось зимовье электрической лампочкой от батарей, снятых со створ. На воткнутых в стену деревянных спицах сохли мездрой наружу шкурки белок.
Гаврила внимательно оглядел пушнину и пристыдил:
—
Рановато, однако, на промысел вышел, белка-то еще зеленая.
—
Зато в шапке крепка, — ответил Хайло, разделывая на крупные звенья малопросольного жигалёнка {3}.
Поставил на стол чашку с вареной глухарятиной, тайменью икру в чумашке, хранившуюся в леднике еще с весны, и украсил застолье бутылкой самогона собственного производства.
Гаврила пить отказался.
—
Хозяин — барин, — обиделся Хайло. — А я выпью за встречу. Как ни крути, сын ты мне. Свои иголки для себя не колки.
Гаврилу так и подмывало заткнуть ему рот куском таймешатины.
Вспомнилось, как Хайло издевался над матерью, когда приходил пьяный в гости. Тащил Августину, намотав косу на руку, белым днем в постель, не стыдясь детей. Вспомнилось — и лютая ненависть охватила его к этому сладко прожившему долгую жизнь человеку. Так и не притронувшись к угощению, Гаврила прикорнул на противоположных нарах, и под пьяную трепотню незаметно уснул.
После третьего стакана самогона Хайло развезло окончательно.
—
Думаешь, кто Дуньку ухохолил? Я! Чтобы «счетоводишке» не досталась. Кастрат хромой, своих не настрогал, так зауголышей развел полный двор. И в чем только держится душа у костлявого ерша?
Хайло взял пустой чайник, качаясь, вышел набрать воды. Вдруг ударила в лицо заплутавшая в снегопаде сова. Поскользнувшись на заваленной снегом тропинке, покатился вниз по крутому сугору. Вынесло его по гладкому заледку чуть не к самой шуге. Тонкий закраек обрушился, и Хайло подхватило течением. Предсмертные крики его, кроме собак, бежавших с воем по берегу, да выглянувшей из дупла любопытной летяги, никто не услышал.
Утром снег перестал. Выяснило. Проснулся Гаврила — ни хозяина, ни собак.
—
Кто рано встает, тому Бог дает, — сказал сам себе и заторопился.
Наломал березовый голик, вымел снег из шитика, разбил шестом заледок и выбрался на струю. Ходом проскочив Дунькину шиверу, оглянулся на знакомый осередок: на нем девушка в синем сарафане и парень в алой рубахе, взявшись за руки, стоят. «Шугу прет, а они по-летнему одеты?!» — удивился Гаврила, начал было разворачивать шитик, чтобы подобрать их, но неведомая сила заставила его отказаться от своего намерения. Еще раз оглянулся: никого нет. «Что только не примерещится на этой Дунькиной шивере», — улыбнулся он.
Пустой шитик, подминая под себя летящее навстречу время, чуть ли не парил над водой, радуясь, что до конца пути осталось совсем недалечко.
Вон и Степка с Иваном шапками с берега машут.
ПАРУС ОДИНОКИЙ
Рассказ
Солнцеволосая Лизавета ласково потрепала Медведушку за седую бороду:
—
Вставай, горюшко мое, на синее море пора!
Встрепенулся, глянул привычно в окно на погожее утро и насторожился: чего-то не хватало там. Ошарил глазами пустой прямоугольник неба и догадался: стрижи улетели! Быстро летушко промелькнуло. Доживет ли до следующего? Стар и хвор. Каждый прожитый день — подарок от Господа.
—
Вставай, вставай, — настойчиво повторила внучка и влюбленно прижала морщинистую руку деда к своей щеке.
Первым делом погляделся в зеркало: в порядке ли борода? Намедни Лизавета пыталась подстричь деда: прилег отдохнуть после рыбалки — наставила ему проплешин. Пришлось бриться наголо. Борода оказалась в порядке.
Изо всех сил старается бойкая внучка хоть чем-то помочь своему ненаглядному Медведушке. Посуду моет, пол подметает… Вчера, например, чуть не заблудилась в пене — рубашку ему шампунем стирала. Как-нибудь выберет момент и бороду разукрасит акварелями — соседи ахнут от зависти: какой деда красивенький! Некому приглядывать за Медведушкой, кроме Лизаветы. Бабушка давно умерла. Дети живут отдельно. Работают от зари до зари, вот и сплавили дочку к нему на лето.
До синего моря шаг шагнуть, но маленькой рыбачке не терпится, она уже оделась и обулась, поставила у двери свою раздвижную удочку — вместо крючка на капроновой ниточке привязана гаечка.
—
Не суетись, успеем нарыбачиться. Вон обутки-то на разные ноги напялила, — проворчал Медведушка, наливая в походный термос прохладный черничный морс. — Тебе, Лизавета, парнишкой бы родиться. Пять лет, а на рыбалку заядалистая — шибче некуда.
—
Деда, отвяжи гаечку, привяжи крючочек…
—
Рановатенько тебе крючок привязывать, подрасти сначала.
—
Дедушка-Медведушка, — надулась внучка.
—
Лиза-каприза, — не попустился тот.
Нашла коса на камень. Удочку с гаечкой Лизавета принципиально оставила дома. Сколько можно рыбок смешить?
Подлеморье усеяно пластиковыми бутылками, ошметками зернистого пенопласта, разовыми шприцами и прочей дрянью, привезенной из-за границы. Синее море не терпит грязи, и когда ее накапливается невпродых, оно, разгневавшись, выбрасывает брезгливо все эти отбросы чужой цивилизации обратно на сушу, как можно дальше от себя. Жарок нынче август. Илья-пророк давно на старой таратайке по облакам прогромыхал, а горожане продолжают купаться. Вон их сколько спозаранку пришло! В советское время здесь праздных людей куда меньше было.