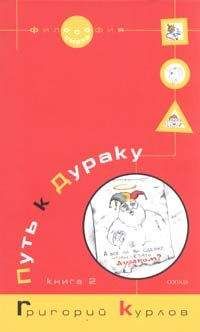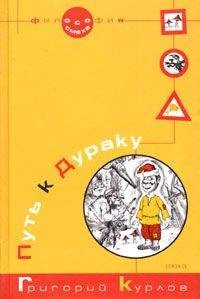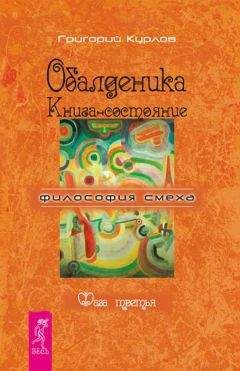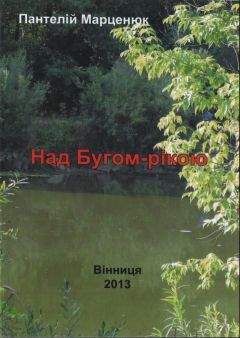Антон Хижняк - Сквозь столетие (книга 1)
— Мы еще не выговариваем буквы «р», да и букву «г» не любим. И еще некоторые.
— Плостите, мама! Я люблю, но не могу. Сколо выласту и тогда сказу! — глянул смело на Аверьяна быстроглазый Пархом.
Аверьян растроганно наблюдал за этой семейной идиллией. Он не мог даже представить Машу в роли матери, да еще троих милых детей. Они с любовью смотрели на мать, ловили каждое ее слово.
Аверьян от души искренне расхохотался:
— Ну и гвардия у тебя, дорогая Мария Анисимовна! Здравствуйте, дорогие дети. Я вашу маму давно знаю. Видел и вашу бабушку Олимпиаду.
— А наса бабуся Халитина, она у нас холосая, плиносит гостинцы, — осмелев, доложил Пархомчик.
— Вот молодец! — спохватился Аверьян. — Пархомчик! Ты напомнил мне. У меня для вас есть гостинцы. — Он раскрыл дорожный саквояж и достал сверток. — В городе купил, — сказал он, раздавая детям конфеты в цветных обертках. — Ешьте на здоровье!
И снова по старшинству дети друг за другом — Хрисанф, Марийка, Пархомчик — поблагодарили.
Аверьян смотрел на Машу и с внутренней улыбкой отметил про себя, что глаза Маши светились неподдельной нежностью и глубокой материнской любовью.
— Мама! Разрешите нам пойти на речку, — попросил Хрисанф.
— Идите, только не спускай глаз с малышей. Не подводи их к страшному омуту.
— А мы на омут и не ходим, там клутит стласно! — живо ответил за всех Пархомчик.
Дети попрощались с гостем и убежали из хаты.
— А твои гамаята вежливые, ты хорошо их воспитала.
— Да, в этом заслуга твоей сестрички. Я учу их, и с каждым в отдельности беседую, и всех вместе собираю. Как видишь, хорошо выходит. Значит, твоя сестричка годится в педагоги?
— Поздравляю, Машуня моя дорогая, и от души рад за тебя. — И тут же подумал, стоит ли говорить ей о своем первом впечатлении, которое произвели на него загорелые, в помятой и латаной полотняной одежде ее дети — «босая команда», как мысленно окрестил их. Но когда этих здоровых детей, вскормленных хлебом и луком, закаленных на земле и на воде, сравнил с хилыми и слабыми барчуками, выпестованными на лакомствах, закутанных в семь одежек от солнца и свежего воздуха, убедился, что можно позавидовать Маше, потому что она воспитывает крепких телом и духом детей.
Подумал и о себе. Если бы горе и нужда не закалили его в детстве, то вряд ли выдержал бы он все вилюйские морозы и полицейские подзатыльники. Согнулись, сломились и увяли иные его товарищи по горестному далекому сибирскому невольничьему скитанию. И именно те, кто не имел житейской закалки, а рос в роскоши и тепле.
— С чем же ты меня поздравляешь, Аверьянушка?
— А с нынешней твоей жизнью, Машуня моя драгоценнейшая, сестрица моя единственная. Поздравляю тебя и с твоим чудесным мужем — чистым и честным Никитой, и с твоими прекрасными детками. Да, да. Не грози своими стиснутыми кулачками. Повторяю — с прекрасными детками. Завидую, завидую белой братской завистью. Можешь мне поверить, так как это говорит единственный на свете родной тебе человек из незнаменитого, но честного нашего рода Несторовских. Ты тоже принадлежишь к этому роду, так как мой отец и твоя мать родные брат и сестра. Это не высокопарные фразы, глубокоуважаемая госпожа Гамаева…
— Ну-ну, полетел, мой Аверьянушка… Гм! Госпожа!
— Не мешай, Машунечка моя дорогая. Пусть я и употребил такую высокопарную форму обращения, но ты же настоящая госпожа своей жизни, своих чувств. Ты не покорилась коварной и горькой судьбе, постигшей твоих ровесниц, не поплыла по течению…
— Не перехваливай, Аверьянушка, — перебила Маша.
— Утверждаю — не поплыла по течению и повернула свою жизнь в иное русло. Построила ее интересно, по-человечески достойно. И собой довольна, и мужем, и детьми. Вот почему я и называю тебя с уважением — Мария Анисимовна.
— Довольна и ни на что не жалуюсь.
— А я очень переживал за тебя, когда меня арестовали. Если бы нашли хоть какую-нибудь, самую незначительную зацепку, угнали бы и тебя в Сибирь. А такая зацепка была. Помнишь? Я тебе давал на сохранение письмо. В нем лежала написанная Дмитрием Каракозовым прокламация «Друзьям рабочим». В прокламации он призывал народ к революции. Ты даже не спросила, что в том письме. И я гордился своей храброй сестричкой.
— Такая ли уж храбрая?
— Не прибедняйся. Храбрая! Я и Дмитрию сказал, что ты перепрятывала его прокламацию.
— Сказал ему? — затрепетала Маша, и в глазах ее засветилась радость. — И он знал об этом?
— Сказал — и знал.
— Спасибо, Аверьянушка… Ты говоришь, что я поступила храбро. А я… я хотела сделать что-нибудь хорошее.
— И сделала… Не отказалась взять то письмо… Много воды утекло в Неве с тех пор, как мы с тобой покинули Петербург. За это время я многое узнал в Вилюйской ссылке. Хотя жандармы придирчиво вели следствие, но не все узнали, и поэтому немало людей осталось на свободе.
— И что же ты узнал в Вилюйске? — поинтересовалась Мария Анисимовна.
— Сосланные туда в ссылку делились друг с другом новостями. От них мы узнавали то, чего не знают жившие на свободе люди и о чем не пишут в газетах. После следствия доложили царю, что ишутинский кружок московских студентов считал своим учителем Чернышевского.
— И Каракозов был в этом кружке?
— Был. Мне рассказывали в Вилюйске о судебном приговоре по делу Каракозова. Напуганные свободолюбием студенческой молодежи царские приспешники отметили в этом приговоре, что молодые люди заражены социалистическими идеями. Даже записали, что ишутинцы имели целью освободить Чернышевского от каторги.
— Много нового рассказал ты мне, Аверьянушка. Спасибо. А мы тут, живя в глуши, ничего не знаем.
— Могу и еще кое-что рассказать, о чем слышал в Сибири от своих товарищей по ссылке… Митю Каракозова, моего хорошего друга, повесили, а многие ишутинцы погибли на каторге и в ссылке. Но им сочувствуют честные люди и сегодня. Как-то перед арестом Митя рассказывал о преподавателях Пензенского дворянского института, которые одновременно были и учителями в гимназии. О двух он с особым уважением говорил. Эти люди уцелели. Их не тронули жандармы, так как не могли сфабриковать оснований для ареста.
— А кто эти люди?
— Я их никогда не видел, только знаю по Митиным рассказам. Среди любимых учителей студенческой молодежи в Пензе были преподаватель словесности Владимир Иванович Захаров и математик Илья Николаевич Ульянов. Двоюродные братья Ишутин и Каракозов познакомились с этими учителями ближе, когда жили в одной с ними квартире. Каракозов вспоминал, как много им, гимназистам, рассказывал Владимир Иванович о Чернышевском. А математик Илья Николаевич, влюбленный в точные науки — математику и физику, проводил с гимназистами беседы о человеческой честности, о воспитании каждым молодым человеком в себе высокой нравственности. Все ишутинцы, в свое время учившиеся в Пензе, с большим восхищением отзывались и о Захарове, и об Ульянове. Не могу поручиться за достоверность, но мне говорили друзья по несчастью, ссыльные, что жандармы следили за Ильей Николаевичем и даже внесли его в свои списки подозрительных лиц за то, что был близко знаком с преследуемым за вольнодумство Захаровым, и за то, что жил в одной квартире с Каракозовым. Да на наше счастье, кроме этого, никаких письменных доказательств крамольности Ильи Николаевича жандармы не нашли. Впоследствии он переехал в Нижний Новгород, а оттуда — в Симбирск.
Мне сообщили друзья, что Илья Ульянов умер полгода назад. Перед этим он шестнадцать лет был инспектором, а последнее время директором народных училищ Симбирской губернии. Я все собирался поехать к нему и расспросить про Митю Каракозова, да так и не собрался… Что ты опечалилась, Машенька?
— Опечалилась от твоего рассказа про Митю Каракозова. Каким он был молодым, когда отняли у него жизнь, — двадцать шесть лет!
— Был человек — и нет. Погиб. А что изменилось? Митя шел не тем путем. Наверное, не так надо с царями бороться.
— Аверьянушка! Твой близкий друг пал в бою, а ты так о нем…
— Машенька! Я уважаю моего друга Митю, всегда буду помнить его, преклоняясь перед его смелостью. Но молодые люди гибнут, а цари остаются.
— Не понимаю тебя. Но ведь примеру Каракозова последовали другие храбрецы.
— Все это так. Однако только после шестого покушения удалось убить царя. Одного убрали, а вместо него стал другой. Наверное, иначе надо поступать. А как — и сам еще толком не знаю.
— Ты говоришь, после шестого покушения… Мы тут сидим в далекой провинции и ничего не знаем.
— После шестого. За Митей Каракозовым на следующий год отважился поднять руку на царя Березовский. Через тринадцать лет Александр Соловьев стрелял на Дворцовой площади, а через несколько месяцев взорвалась мина на железной дороге под Харьковом, но поезд, в котором царь ехал в Крым, не пострадал. Шесть лет назад Степан Халтурин проник в Зимний дворец, устроил взрыв, разрушивший стены, а царь только испугом отделался! Но все-таки вскоре Игнат Гриневицкий метко швырнул бомбу на улице, и царя не стало. Жаль, что и сам Гриневицкий погиб во время взрыва бомбы. И надо сказать, Машенька… Все эти храбрецы, шедшие на верную смерть, все они были молодыми — Каракозову, Халтурину, Гриневицкому по двадцать пять лет, почти столько же Березовскому. Молодые люди, им бы жить да жить.