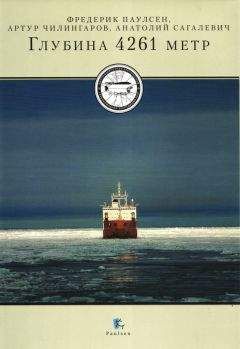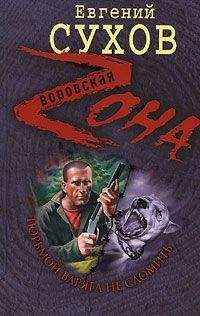Александр Башкуев - Призвание варяга (von Benckendorff)
Нет греха в том, что вы убили католика — вы не могли поступить иначе. Но грех ваш в том, что вы не предали тело еретика — земле, дабы душа его могла в урочный час предстать пред Господом нашим и покаяться во всех своих смертных грехах.
Как вам не стыдно?! Как вам не совестно?! Разве не читали вы Писания, где сказано, что долг каждого христианина — спасать душу заблудшую, а вы бросили труп на съедение диким зверям, "аки сами — звери дикие есмь". Пойдемте ж, ребятки, исполним наш долг.
Мы вышли на улицу и опять переправились через реку. Убитый нами мальчишка лежал все на том же месте и даже еще не начал разлагаться. Мы с ребятами взяли по лопате и стали копать могилу.
С ней пришлось попотеть. Я почему-то думал, что в Курляндии — сплошной чернозем и надеялся, что работа быстро пойдет, но не тут-то было. Нет, почва оказалась посуше, да и камней поменьше, чем на нашем болоте, но — не чернозем.
Когда мы здорово употели и поснимали рубахи, кто-то из взрослых сказал:
— Может хватит, — дети ведь… Госпожа баронесса, мы согнали сюда всех окрестных католиков, они за пару минут управятся — ведь дети малые!
А матушка, которая гарцевала вокруг нашей могилы на своей кобыле, привстала на стременах и осмотрела огромную толпу согнанных латышей католиков. Потом, прикрыв глаза рукой, она взглянула на ослепительное, жаркое солнце и сухо ответила:
— Ничего, не маленькие. Смогли человека убить, пусть смогут и схоронить по-людски. Они же теперь — совсем взрослые", — и все разговоры сразу же смолкли.
Было очень жарко и пот заливал мне глаза. Да и чуть пониже пошел сплошной камень. Ясное дело — высокий берег Даугавы. Да и глина под ногами была покрепче нашей — у нас на такой глубине уже бы хлюпало. А тут берешь деревянную трамбовку, бросаешь на дно круглый голыш. Удар и голыш ушел в землю. Только круглая дырка осталась. Нет, хорошая земля в Курляндии — на нашем берегу эту дырку сразу бы глиной затянуло. Такое у нас болото.
Вот выкопали мы наконец могилку: ноги гудят, руки горят и крючьями сволокли в нее этого. На этот раз я его хорошо разглядел — совсем мальчишка. Правда, лица у него попросту не было, но по всему остальному — несомненный мальчишка. Ручки тоненькие, ножки щупленькие, а шейка такая, что я ее мог бы голыми руками сломать — настоящий дистрофик. И странное дело — думалось мне, что должна была у меня к этому мальчишке проснуться то ли ненависть, то ли жалость. Но ничего так и не было. Случайный парень. Случайно мы его убили. Не сказал бы он на латыни — остался бы жить…
Засыпали мы его быстрее, чем яму выкопали. А за то время, пока мы копались, прочие ребята сколотили простенький деревянный крест, а Ефрем достал киновари и нарисовал на могильном кресте простенький красный крестик — курляндский, католический.
Воткнули мы крест в могилу и хорошенько обложили вынутыми из ямы камнями и я сам вырезал на кресте: "Behut euch Gott" — "Храни вас Бог". Матушка, прочитав мою надпись, одобрительно кивнула головой и объявила со значением в голосе:
— Господа католики, теперь вы можете вернуться к своим занятиям. И "Храни вас Бог!", коль с надписью что случится!
Вечером я тихонечко постучал к маме на кухню. Была пятница, но она почему-то не позвала меня, чтоб читать новую книжку и варить нашу курочку. Из этого я заключил, что она — сердится на меня.
Матушка сидела за кухонным столом рядом с Дашкой и делала вид, что не знает о моем появлении. Дашка же посмотрела на меня, наморщила носик и всем видом показала, как она мною брезгует.
Я подошел к ним, встал перед матушкой и сестрой на колени и тихонько проблеял:
— Я больше не буду! Простите меня, пожалуйста!
Матушка оторвала свой взгляд от книжки и я никогда не забуду — с какой болью она посмотрела вдруг на меня. Голос предал ее. Она минуту не могла ничего вымолвить, а потом даже не прошептала, а, скорей — просипела:
— Ты доволен собой, протестант?! Ты знаешь — кого ты убил? Ты своего прадеда бил прикладом! Ты свою бабушку резал ножом… Ты ее — именно ТЫ ее изнасиловал и замучил! Иди же к своим, протестант! К таким же, как ты, — кальвинистам с пруссаками!
Я обнял ее колени, я зарыдал, прижался к матушке всем моим телом и закричал:
— Я больше не буду! Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ БУДУ! Я не подумал! Я люблю тебя, мамочка! Я так больше не буду…
Матушка мгновение смотрела на меня с недоверием, а потом всплеснула руками, обняла меня, трясущегося от рыданий, и заплакала вместе со мной:
— Я понимаю… Я все понимаю. Ты — не можешь иначе. Ты ведь, правда, — не можешь иначе! Я все понимаю…
Они убивают твоих друзей. Если ты хочешь дружить с латышатами — ты тоже должен убивать этих католиков… Но не таким же способом!
Святой Долг любого мужчины — защищать Дом, Родину, любимых женщин. Убивать ради этого! Но не безоружного мальчика! И не прыгать потом на хладном трупе с пещерными воплями..!
А я, обливаясь слезами, стоял перед матушкой на коленках и ревел еще пуще:
— Я больше не буду, мамочка! Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ БУДУ!
С того самого дня прошло уже больше полвека… Я убил много народу, но никто и никогда не посмеет обвинить меня в том, что я убил безоружного, или — не-преступника. И еще, — с того самого дня я ни разу не глумился над трупами. Убил и — убил. Не надо плясать над чужим телом. Это был — Человек.
К тому времени среди немцев пошли разговоры против жидов. Матушка, на всех углах говоря о своей "нелюбви к оккупантам", исправно платила налоги и сборы русской казне. В ту пору Империя дралась на два фронта: пока мы брали Измаил, да Очаков, шведы стали нам шилом в заднице и "рижский мятеж" был весьма кстати.
Матушкина родня в Берлине и Лондоне требовала от Швеции "оставить Ригу в покое" и так как шведы во всем зависели от британцев, "Латвию" объявили "нейтральной". Матушка немедля ввела Вермахт во все города побережья — до Нарвы и получилось, что шведы могли воевать с Империей только в предместьях Санкт-Петербурга. Такое сужение фронта было на руку русским и бабушка пальцем не шевельнула на все наши "Восстания.
Долго такие штуки не могли продолжаться и вскоре по Риге пошли разговоры, что "госпожа баронесса" на самом-то деле — "жидовка, продавшая нас русским". Латвию же за глаза стали звать не иначе, как "Царством жидов.
Немцам все это не нравилось и многие из них стали все чаще поглядывать в уставы магдебуржского права, в коих черным по белому было прописано запрещение нашему племени занимать должности в магистратуре, и даже торговля.
Но матушка была необычайно популярна среди латышей. Она открыто жила с латышом и ее первенец был — от латыша. Все помнили, как латыши по матушкину призыву согнули в рог местных баронов и… Назвать ее "жидовкой" было небезопасно, но очень хотелось.
Повод для скандала нашелся на изумление быстро. Я пошел в школу только с восьми, — годом раньше шла Шведская. Латышских школ в ту пору в Риге еще не было, а отдать меня в обученье раввину — казалось политическим самоубийством. Так что я пошел в школу немецкую и для немцев, хоть матушка и прекрасно знала о том, как не любит нас немецкое население города.
Я ощутил сие на своей шкуре в первый же день. На протяжении всех занятий вокруг меня существовал этакий вакуум, — прочие дети не играли со мной и даже не разговаривали. Учителя не задавали мне вопросов и не вызывали к доске. Даже места по обе стороны от меня были пусты. Передать не могу, как скверно было у меня на душе. На перемене я слышал, как мне в спину шипели: "Жид!
Я оборачивался, дабы проучить наглецов, но все были заняты своими делами и никто, казалось, не обращал на меня никакого внимания. Я даже не мог догадаться, кто именно только что открыл рот и в мой ли адрес брошено оскорбление. Да, этот день я не забуду до конца моей жизни.
По счастью — всему всегда приходит конец. После уроков нас повели на молебен. У дверей в часовню стоял один из учителей богословия — скромный и незаметный. Впоследствии я узнал, что в тот день он был без уроков, но его нарочно позвали, ибо все знали, какой он — маньяк и фанатик. Мания его состояла в идее национальной чистоты и всемирного жидовского заговора.
Был он человеком твердых и неколебимых принципов из породы людей, что когда-то становились мучениками.
При виде моей жалкой персоны сей господин аж вскинулся телом, издал из своего нутра победительный клекот и кинулся на меня. Он больно схватил меня за ухо, выволок из строя учеников младшего возраста и завопил, что есть силы:
— Святотатство, поругание святынь! Мерзкий жид пытался войти в Храм! До чего дошла Рига, сия саранча скоро выживет немцев из нашего города! Буль-буль-буль! Кудах-тах-тах!" — ну и так далее.
Он стоял и крутил мне ухо, а мне было не больно. Я слишком был поглощен запоминанием всех деталей происходящего, чтобы обращать внимание на сии мелочи, а этот олух от сего сильней распалялся. Под конец он не выдержал и завопил мне в лицо: