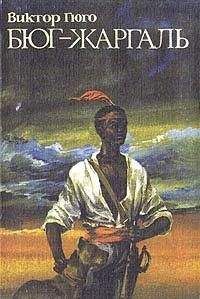Фаина Гримберг - Клеопатра
Как ни странно, более всего запомнились обеим девушкам, Арсиное и Маргарите, заросли папируса, длинные стебли тонкие, вздымавшие вверх свои растрёпанные венцы... Отчего-то было трогательно видеть этот будущий писчий материал в виде живых, колыхающихся под ветерком речным растений...
Этот священный бык скончался почти одновременно с Клеопатрой, как и её кошка Баси — олицетворение египетской богини Бастис!..
Возвратившись в Александрию, царица приказала установить в порту стелу с изображением священного быка и высечь иероглифическую надпись: «...Великая царица, госпожа Верхнего и Нижнего Египта, Исида олицетворённая, Клеопатра Филопатра, сопроводила священного быка, живое воплощение Амона, в священной барке Амона...» В день установления стелы она распорядилась устроить в порту выступления музыкантов, певцов и танцоров, и угощение. К её удивлению, Арсиноя не присутствовала. Зато явились Потин и Теодот, стояли вместе с ней на помосте, улыбались... Во дворец она возвратилась поздно, очень усталая, быстро вымылась и легла. Утром вспомнила об отсутствии Арсинои на празднике в порту. Пошла к ней. Разговор был неприятным. Сначала Арсиноя пыталась делать вид, будто нимало не обижена на сестру, но лицемерить умела плохо. А Клеопатра не могла понять, почему обижена Арсиноя. Арсиноя спрашивала, как прошёл праздник. Клеопатра ощущала, будто меж нею и младшей сестрой натянулась тонкая, невидимая тугая нить, и каждое произнесённое слово будто скользит, удерживает равновесие на этой нити...
— Я не понимаю, чем я обидела тебя!
— Не может быть, чтобы ты не понимала!
— Кама, не сжимай пальцы рук на коленях! Какая трагедия успела разыграться с той поры, как мы с тобой стояли на палубе священной барки?
— Ты веришь в священного быка?
— Более — в Исиду! Слышишь, я отвечаю, не задумываясь.
— Ты и вправду не понимаешь, какую обиду...
— Я обидела тебя?!
— Поклянись памятью о Веронике, что и вправду не понимаешь!
— Клянусь! Только это ты оскорбляешь меня, подозреваешь, не могу понять, в чём!..
— Хорошо! Мне и самой трудно говорить. Не обвиняй меня в мелочности. Однако... Ведь ты... В надписи на стеле ничего не сказано обо мне!
Для Маргариты подобное заявление действительно оказалось неожиданностью. Она молчала, но в душе стремительным комом нарастала досада. Досада стремительно обрела голос:
— Почему должно быть сказано о тебе? Надпись говорит о царице. Это совершенно официальная надпись... — Маргарита чувствовала свою уверенность наигранной. В сущности, она даже и колебалась: а если Арсиноя права?.. Но в это время Арсиноя взяла совершенно неверный тон некоторой заносчивости; не потому что была заносчива, а потому что переживала с этой отчаянной горячностью обиду:
— Значит, я для тебя — то самое лицо, не принадлежащее к царскому дому? Даже и не синдрофиса! Лучше бы отец не признавал меня вовсе! Это было бы лучше, чем унизительная половинчатость! Кто я во дворце? Не приближенная царицы, не царевна... Родные моей матери умерли. Даже и рабыни смеются надо мной!..
— Ах, это нытье! Постоянное нытье!.. — Маргарита смотрела на Каму дерзко; в детстве, бывало, так смотрела. Каму пугал такой взгляд сестры... — Может быть, ты и подружилась со мной из корысти? Чего ты хочешь? Говори прямо!..
— И скажу! — Арсиноя всегда была такова: теряла в какой-то миг тяжёлого разговора самообладание и говорила правду, такую правду, какую не надо было говорить! — И скажу! Я хочу видеть тебя царицей, а я чтобы была твоей соправительницей!..
Маргарита всё же немного растерялась. По сути, Арсиноя не сказала ничего дурного...
— Но всё же корысть... — нерешительно произнесла Маргарита. И вдруг и сама выговорила свою правду: — Зачем ты это сказала! Не надо было!
— Я сказала правду! — Арсиноя замкнулась в своём упрямстве, внезапно накатившем.
Маргарита промолчала длинный, долгий миг. Остыла.
— Может быть, это и хорошо, то, что ты сказала мне правду, призналась... — Маргарита хотела было закончить: «...в своей корысти!», но не захотела обижать сестру.
— Мне не в чем признаваться. Мы не на суде. И если тебе не нужна сестра, которая честно дружит с тобой, поддерживает тебя...
— Перестань упрямиться, Арсиноя! Конечно, ты нужна мне. Я совершила ошибку, но уже нельзя изменить надпись, ты знаешь! Было бы странно, если бы я приказала изгладить эту надпись и выбить новую! Но я не собираюсь бросить тебя. Да и о каком моём самовластии может идти речь? Существует мой муж, существует его младший брат...
— А изгнание отца и воцарение Вероники?
— Я покамест не вижу, как бы я могла изгнать моих братьев.
— Будем думать вместе.
— Будем... — Холодность прозвучала в голосе Маргариты. — Но я тебе искренне говорю: ты напрасно говорила со мной так!..
— Было бы лучше, если бы я лгала?
— Не знаю.
Арсиноя поняла, что уже незачем приставать к старшей сестре, говорить ей о своей искренности, правдивости. Теперь можно было только юлить, заискивать, пытаться натужно возвратиться к прежней непринуждённости отношений...
— Но ведь установление стелы — своего рода первый шаг… — начала Кама.
— Не знаю, правильно ли я поступила и к чему приведёт этот шаг. — Теперь Маргарита всё более замыкалась в себе.
— Я с тобой!
— Я знаю...
Не раздумывая, Арсиноя решилась на интимную искренность, желая показать сестре, как откровенна с ней:
— Ты знаешь, — заговорила торопливо, — я совершенно не интересна Иантису...
— Ты царевна, а он всего лишь иудей, переселившийся в Брухион! Прикажи — он будет проводить с тобой дни и ночи! — В голосе Маргариты всё ещё звучала эта холодность. Каме даже показалось, будто сестра произнесла слово «царевна» с явной издёвкой. Но Арсиноя сделала вид, будто не замечает ни холодности, ни издёвки... Говорила лихорадочно:
— ...Дева Артемида! Я хочу, чтобы он любил, чтобы он полюбил меня!..
— Хочешь любви, а призываешь богиню целомудрия! И ничего не хочешь сделать для того, чтобы быть любимой! Не хочешь подумать об одежде и украшениях к лицу!..
— Не хочу притворяться!
— Глупо!
Кама разозлилась и ей стало всё равно, как будут складываться её отношения с царицей-сестрой:
— Как ты хорошо понимаешь любовь! Знаешь, как добиться любви! Умеешь нарядиться к лицу! Только никого не любишь, не можешь влюбиться! Пусть Иантис не любит меня, зато я люблю! А ты никого не любишь!..
Эти пылкие слова не обидели Маргариту, она увидела в них проявление силы, а силу она предпочитала.
— Миримся! — предложила искренне. — Я была не права, ты была не права! Миримся!
— Я была права!
— Хорошо! В следующий раз прикажу высечь твоё имя рядом с моим! Только берегись, как бы это не оказалась надпись о казни царицы и царевны!
— Нестрашно!..
И они снова болтали дружески…
— А ты могла бы полюбить Иантиса?
— Зачем это тебе? Если бы я полюбила, он бы уже никого больше не полюбил никогда!
— А мне хочется, чтобы все любили того, кого я люблю, склонялись бы перед его красотой и талантами!..
— Я никогда не отдамся иудею! — Маргарита говорила без высокомерия.
— Вот и ещё одна твоя глупость!
— А я не понимаю, чего ты хочешь! Быть моей соправительницей? Жрицей Артемиды? Любить?
— Я хочу быть твоей соправительницей и быть жрицей Артемиды. И я хочу любить так, чтобы писать стихи!..
— А на постель вдвоём не ложиться?
Арсиноя отрицательно качнула головой. Маргарита стала смеяться, но Арсиноя не обиделась, а подхватила этот весёлый смех. Они смеялись, как маленькие девочки...
На другой день, вечером, Иантис прочёл одно любовное стихотворение, в котором воспевались красота и необыкновенный ум какой-то дивной женщины, и — наконец:
— ...Я будто весь вошёл в тебя с войсками!..[33]
Стихотворение было написано как монолог полководца или кого-то, желающего сделаться полководцем...
Ночью сёстры обсуждали между собой стихотворение Иантиса.
— ...Не имеет ли он в виду Полину? — спрашивала Арсиноя.
— Я думаю, он говорит вовсе не о любви к женщине, он говорит о своей мечте! В сущности, ты и он — похожи, оба мечтаете... — Маргарита хотела сказать: «о несбыточном!», но проявила благоразумие и не сказала. — ...На этих своих мечтаниях вы и сойтись можете...
— Перестань об этом...
— Я не такая развратная, как ты! — Маргарита смеялась, заражая смехом Арсиною. — Я всего лишь полагаю, что вы можете подружиться!..
— О чём же он мечтает? — Арсиное доставляло явное удовольствие говорить об Иантисе и всерьёз рассуждать о предметах, совершенно простых, как будто они сложные!..