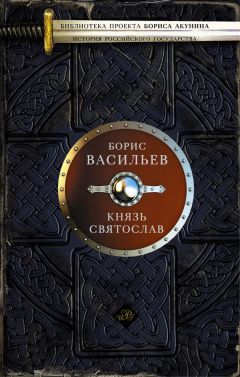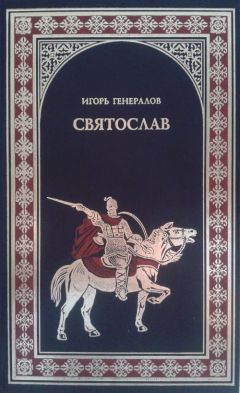Ольга Гладышева - Крест. Иван II Красный. Том 2
— А вот она, лиса мокрая, сейчас заю в мешок! — заревел он из кустов.
Боярыни с притворным визгом бросились врассыпную. Митя сначала посмотрел недоверчиво, вопросительно, не сразу узнал в сумерках, потом кинулся к отцу, обнял колени, вскарабкался на грудь, крича:
— Тятя, мой тятя приехал!
Иван задохнулся, стиснул сына, жадно приник лицом к горячей щёчке, затылку, пахнущему воробьиными перьями. Всякий раз после разлуки Митя сразу находил самое главное сообщение из своей жизни. Так и сейчас:
— Мне дяденька Василий розовую лошадь подарит на посажение.
— Неуж розовую? Откуда знаешь?
— Мамушка сказывала: соловая и с медью немножко.
Митя поспешал рядом с отцом, держа его за руку и припрыгивая, радуясь обещанному подарку, дядиной щедрости.
Дяденька этот — Василий Вельяминов — на Митиной свадьбе через много лет обворует племянника — великого князя, подменив пояс дарёный с каменьями другим, малоценным, отчего произойдёт впоследствии промеж внуков и правнуков Мити большая свара и тяжкие другу другу мучения. Но Митя про то никогда не узнает.
— А ещё мы с Иваном Михайловичем на прорубь ходили по рыбу, — хвастался он.
— Как на прорубь? И маменька позволила?
— А мы с краешку, у бережка. Я сижу, удю-удю, поймал маленькую. А Иван Михайлович давай её сечь: «Пошли отца, пошли мать, пошли тётку, пошли дядю», — и обратно бросил, чтобы она всех привела. А она никого не привела.
«Господи, за что же ты мне этакое блаженство посылаешь!» — мысленно воскликнул Иван.
Жена встретила его бледная от тревоги. Всё обсказал про московские события, про горе в семействе великого князя, про отчаяние Марии Александровны. Только о кресте, Семёном данном, умолчал.
Глава двадцать восьмая
1
Апрель пришёл чуден. На Страстной неделе речные и озёрные воды очистились ото льдов, стали темны, недвижны, зеркальны. Леса пока не оделись, солнце, обходя их, насылало горячий свет, чтоб достиг он каждой ветки, каждого малого кустика в ложбине, чтоб пробились к жизни зелёные иглы трав, чтоб подняли хрупкие головки золотистый и заячий маки, и сон-трава, и перелеска. Ветра, пролетавшие над водами, ещё отдавали снеговой свежестью, а с полей они несли влажный, грустный запах раздышавшейся земли. Поём на лугах пошёл пузырями, и уже какие-то мушки-крохотушки начали скакать по пузырям. Ночи были голубыми, в полной луне.
Иван с женой подолгу сиживали в верхней горнице без огня. Апрельская сырь заползала в сени, небо густело, погашая полосу заката, и вот уже удивлённо зажигалась над амбарами первая звезда. Дети внизу на поляне жгли теплинки, трепет слабого пламени освещал их — будто ангелы собрались вокруг лампады, невинные и задумчивые. Они смотрели в огонь, подкармливая его пучками сухой травы; устав от играния и драк, набегались, помирились и затихли. И младенческая нежность проступила в чертах. Прозрачное сияние хлынуло из небесных пространств. Луна всходила.
Звёздный ковш висел над кладбищем. Скоро он приподнимется и медленно поплывёт на восток. Сначала встанет над садом самоубийцы Петра, потом над двором пьяницы Константина, переместится выше и окажется над подворьем Святогона, а над рекой он будет окружён таким обширным количеством звёзд, что всё станет одним общим блеском, блистающим покровом, опускающимся на землю.
Казалось, тихо-тихо перебегают из тени в тень баеннички, сарайники, домовушки, отплёвываются, невнятно переругиваясь. От них пахнет мокрой шерстью и грязными ушами. Словно этот мелкий народец, належавшись зимой по углам и под лавками, теперь толкается по укромным местам и во дворе, где скопился разный хозяйственный мусор, щепки, камни, топочет вдоль городьбы к воротам и обратно, посвистывает, посапывает, постанывает, ведёт себя озабоченно — то ли от голода, то ли от стужи...
Иван держал в ладонях горячую сильную руку жены в широком длинном рукаве, подхваченном возле локтя пластинчатым наручем. Брусничный цвет платья дотлевал в чёрный багрец, лишь тускло поблескивали шелка на ожерелке. Наряжаться Шуша любила и умела, не видал её Иван неубратою. И сама ласкова была и на мужнюю ласку отзывчива.
— Если бы не за тебя, ни за кого бы не пошла. Когда ты женился на брянской, меня матушка утешала, найдётся, мол, для тебя добрый муж да умный, не плачь. А я: где ещё его найдёшь-встретишь, умного да доброго?
— Много плакала-то по мне?
— А тебе лестно?
— А то нет?
— Вот и не скажу.
Шуршали рукава брусничные, душили объятия жадные, кровь закипала в чреслах у Ивана. Хоть бы скорей пост кончался!
— Не разжигай меня, соромница страстная. Пусть мимо идёт зной сей.
— Мы только один раз, а потом покаемся.
— Так я тебе и поверил — один раз! Утихни.
— Пост пройдёт, меня дурнить начнёт, потом носить буду, кормить год. Когда ж супружеские сласти возможны?
Иван покрыл поцелуями её щёки, глаза и за ушками:
— Потерпи ещё, разбойница-красава! Вот уже удоволю тебя.
Так близка она была, так желанна!.. На Благовещение сказала ему со смешком и глаза пряча:
— Опять придётся пеленицы готовить.
Он понял, вспыхнул от гордости:
— Ай, правда? Кому — пеленицы?
— А вот увидим скоро. Если останусь белолична да румяна, сына ждём. А распухнут губы да нос — девку.
Смутно и бледно проплыло тогда перед Иваном безобразное лицо несчастной Фенечки. Он поспешно погасил это воспоминание, а вслух сказал:
— Судьба нас полюбила, Шуша. Возблагодарим её.
— Судьба? Что такое судьба?
— Астрологи её по звёздам читают. Кому быть богату, кому — сильну, кому — убиту.
— А нам?
— Счастливыми быти.
— Мне почему-то страшно.
— Чего?
— Черной нежитовицы боюсь.
— Сюда не заскачет. Мы же в затворе. Никого к себе не допустим.
— А светила небесные что разочтут?
— Ты скажи лучше, сколько планит знаешь? Ну-ка?
— Нисколько.
— Планит суть семь: Солнце, Луна, Земля... Афродита... ещё Кронос...
Шуша прильнула к нему опять:
— Учёный ты, князь, прямо поп Акинф.
Ивану приятна была её безыскусная лесть, но он хотел оставаться справедливым:
— Догадался я, Шуша, что учен я мало и плохо. Я после похорон владыки теперь часто о нём думаю.
— О владыке?
— О Феогносте. Вот он был учен. И странно, что помнится всё, им речённое. Впадёшь в затруднение, в сомнение — и будто голос его услышишь. Всё-таки он нам с братьями кое-что успел вложить в головы.
— Ты немножко всё-таки хвастаешься передо мной, да?
— Чего мне хвастаться! Ещё батюшка наш покойный, бывало, замельтешит, заволнуется: как лучше поступить? А митрополит скажет: не будем искать во время сеяния того, что принадлежит жатве, есть время сеять труды и время пожинать плоды. И я хочу одного, Шуша, — в полном доверии ко Господу исполнять долги свои и ожидать то, что трудами добывается.
Она погладила его по груди:
— Если сына рожу, назову Иваном в твою честь.
— Ну, вот ещё! Я сам буду решать, какое имя выбрать, — проворчал он, скрывая довольство.
2
Всё ярче, всё длиннее становились дни. И в избах крестьянских, и в горницах княжеских потолки, стены отмыты, печи побелены, полы отскоблены. Как-то гулко стало в комнатах. Мите скакать коником запретили и расплёвывать из пукалки репу кусочками тоже запретили. Всюду лежали тёплые солнечные пятна. В поставцах, сундуках, во клетях добро перебрали, на вервиях во дворе просушили и заново упрятали, а иное вынесли в амбары на хранение. Было очень весело бегать и добро осматривать.
Вот только матушка... Утеснения от неё всякие и строгости несправедливые. Все говорили: вот пришла Марья — зажги снега. Мите желательно поглядеть, где это Марья зажгла снега, а матушка смеётся: это, мол, только молвится иносказательно, козлятко моё резвое. Настал великий четверг. Говорили, в этот день колдуны по избам ходят, золы осиновой из печей просить, им для ведовства она надобна. И колдунов его не пустили посмотреть. Рано поутру бабы пошли за околицу мёртвых кликать — ни-ни-ни, матушка только руками замахала: чего удумал, мёртвых он кликать будет! В клетях стряпухи на полотне муку порассыпали для куличей, чтоб она прогрелась. Митя бегал и в муку дул, ветер пущал, стал весь белый: штаны, и лицо, и волосы. Стряпухи бранились и грозили батюшке проказы его донесть. Везде утеснения! А вечером в церкву не взяли: ложись, мол, спать пораньше, ноне служба длинная, двенадцать Евангелий будут читать, темно будет там и печально. А Митя всё равно не спал и, как в колокол били после каждого Евангелия, слышал. А когда кончили служить и народ домой пошёл, Митя из постельки босиком вылез и к окну: там внизу, по дороге из церкви, — река из огоньков, людей самих не видать, а огоньки текут. Мите-то тоже хотелось бы домой свою свечечку донести! Даже всплакнуть собрался. Но перетерпел.