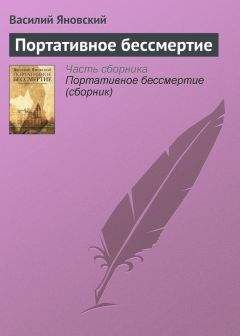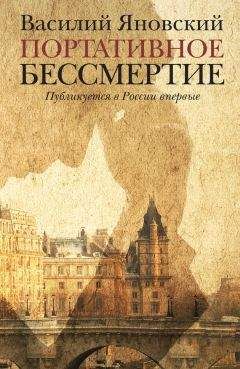Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.
– Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать! – уверял Иванов, еще больше оттопыривая нижнюю губу.
Ночью на Монпарнасе, у «Доминика» или в «Селекте», подсаживаясь к нам, Бунин был мужественно изящен и прост. С ним нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он чрезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы – Эдгара По! Что не мешало обоим этим литераторам сводить с ума Россию.
Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам.
Он уверял, что всегда презирал Горького и его произведения. Однако лучшая по старым временам поэма Бунина «Лес, точно терем расписной…» была посвящена в первом издании Максиму Горькому. Позже, в эмиграции, он перепечатывал ее уже без посвящения.
– Не трогайте отца Н.Н.! – выкрикивал он вдруг в порыве какого-то душевного великодушия, хотя мы ничего дурного об о. Н.Н. не собирались говорить. – Не трогайте его, это мой Митя!..
Тут, конечно, любопытное противоречие, бросающее свет на процесс творчества Бунина и на ограниченность его кругозора: в «Митиной любви» герой кончает довольно банальным самоубийством, тогда как на самом деле молодой человек из его повести постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем.
Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:
– Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы…
Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала. А ресторатор это понимал не хуже Фрейда или Адлера.
Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в этом смысле он был вполне западным человеком – без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова.
Семейная жизнь Бунина протекала довольно сложно; Вера Николаевна, подробно описывая серую молодость «Яна», позднейших приключений его не коснулась, во всяком случае, не опубликовала этого.
Кроме Кузнецовой – тогда молодой, здоровой, краснощекой женщины со вздернутым носиком, – кроме Галины Николаевны в доме Буниных проживал еще Зуров. Последний был отмечен Иваном Алексеевичем как «созвучный» автор, и его выписали из Прибалтики. Постепенно, под влиянием разных бытовых условий, Зуров вместо благодарности начал испытывать почти ненависть к своему благодетелю. К тому же, несмотря на заботливый уход Веры Николаевны или по причине его, Зуров вдруг тронулся рассудком, подвергаясь периодически припадкам помешательства. Он уже давно писал огромную эпопею «Зимний дворец», которую по многим причинам не мог или не желал печатать в эмиграции.
В свои последние годы Бунин сообщал гостям, насмешливо кивая в сторону комнаты Зурова:
– Вот «Войну и мир» все пишет, ха-ха-ха.
Рассказывая мне об этом в Нью-Йорке, Алданов неизменно добавлял:
– Уважаю, очень уважаю, но сам я не могу десять лет работать над одной вещью.
Когда Алданов писал пьесу для театра Фондаминского, он систематически прочитывал все известные драмы: новые и классические.
– Хороших пьес нет! – сообщил он мне с некоторой печалью.
Мы сидели наверху в «Мюра». Бунин только что вернулся из Италии и с радостью повторял слова, недавно сказанные Муссолини о том, что он не позволит поделить Испанию на две части! Надо было, конечно, объяснить Алданову, почему он не заметил хороших пьес, но тут Бунин вмешался и рассказал, что тоже когда-то начал писать трагедию, но неудачно, и поэтому уничтожил рукопись.
– Вот этого я не понимаю, – хозяйственно упрекал его Алданов. – Ну, отложите в сторону, спрячьте. Когда-нибудь пригодится!
– Это бы меня беспокоило, – нехотя поучал Бунин своего друга. – А сжег, конец!
Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно.
Бывало, на юге, в Грассе, утром выходит из комнаты Ивана Алексеевича Кузнецова и обращается к Вере Николаевне (заикаясь, со вздернутым смазливым носиком):
– Иван Алексеевич получил очень интересное письмо из Парижа…
– Ну, если оно интересное, то он мне сам расскажет, – при людях сдержанно отвечала Бунина.
Ходасевич называл Кузнецову – Зурова бунинским крепостным театром.
На Монпарнасе Бунин хаживал в отдельные комнаты наших поэтесс, стараясь проникнуть в местные тайны, потом говорил:
– Душечки, вы ничего нового не выдумали. Вот была у нас в Москве Инна Васильевна…
Типичнейший перебор зубров: при виде Лувра вспомнить родную каланчу; читая Пруста, похвалить симбирского самородка, спившегося пятьдесят лет тому назад. Зайцев был гораздо культурнее, знал языки и ценил Запад, разумею, искусство Запада.
Вспоминаю эти ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания… Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика – всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидели его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон.
– Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном? – осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.
– Вот дам между глаз, так узнаешь, – гласил ответ.
И этот старинный прием – между глаз… – звучал как вальс «На сопках Маньчжурии».
Единственное, что меня потрясло в его речах и что я вспоминаю часто, как цитату из Пруста или Достоевского, это его слова относительно критики, рецензий, отзывов:
– Вот до сих пор еще, а ведь сколько этого было, – услышал я от него раз в «Доминике». – Увидишь свое имя напечатанным, и сразу тут, в сердце, – Бунин поскреб щепотью свою грудь слева, – тут почувствуешь нечто похожее на оргазм.
Вот такие откровения чувственного мира для него характерны. И еще памятно… Раз во время оккупации в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня как пушкинское «И милость к падшим призывал»… Неожиданно и прекрасно.
Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка – все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком – это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть, при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была плоска и бесцветна.
Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, повторит.
Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к своим произведениям. Он локальное, русское, литературное явление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном.
У меня с Буниным, несмотря на частые встречи, личных отношений почти не было. Раз мы просидели целый вечер одни в коридоре, дожидаясь конца собрания, на котором Адамович, Гиппиус, Вейдле и даже Ходасевич славословили прозу Фельзена (тут же прочитавшего несколько отрывков). Бунину было так же трудно переварить этот «социальный заказ» наших критиков, как и мне! Так мы шептались часа два, беседуя и сплетничая. Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом.
Все, что я писал, Бунину было совершенно чуждо; его «психологические» романы казались мне повторениями века Мопассана или Шницлера по-русски, то есть с обильной закуской, жаворонками и закатами.
Когда выходила моя новая книга, я ее аккуратно посылал лауреату с любезной надписью. При встрече он благодарил, иногда делал двусмысленный комплимент. Так, о «Любви второй» сказал приблизительно:
– Хорошо у вас там религиозное преображение. А вот героиня упоминает о менструации: не знаете вы женщин, никогда они про это не заговорят.