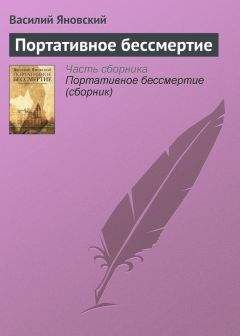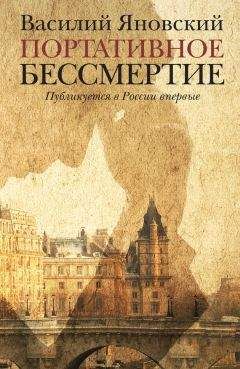Василий Яновский - Поля Елисейские. Книга памяти
Я случайно видел Мережковского в церкви на рю Дарю. В будний день, пустой собор; и его сухое тельце в российской шубе с бобровым воротником – похожее на высохшее насекомое или на парализованного зверька!.. Он долго лежал на полу, напоминая финальную сцену из лесковского «Чертогона».
Из старших у Мережковских бывали Керенский, Цетлин, изредка Алданов, Бунин и случайные иногородние паломники.
Присутствие Керенского создавало в гостиной всегда праздничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал лавровый венок на его голове, постриженной ежиком. Есть такие счастливцы и неудачники, которые, как метеоры, как яркие кометы, проносятся по небосклону, оставляя необъяснимый, подчас незаслуженный след в сердцах. Такое чувство я испытывал при виде Керенского, Линдберга, Одена, Сирина, Джона Кеннеди, Поплавского, Вильде. Это тайна Падающих Звезд, по-английски shooting stars.
Но стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда и не на большой глубине. Он принадлежал к породе «недогадывающихся»: по-моему, он был попросту неумен.
Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую, или мужицкую, Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи.
В ответ на одно такое мое высказывание он раз сказал мне: «Все, что теперь происходит в Европе и перемалывается ею десятки лет, началось в России, как в прологе к греческой трагедии, как в пантомиме, понятной зрителю только в конце представления. Если бы мы имели опыт того, что потом произошло в Италии или Германии, мы бы совсем иначе себя вели».
Я передаю его слова по памяти, но за общий смысл ручаюсь.
В Нью-Йорке мы с ним часто встречались на собраниях «Третьего часа» в тесной квартире Е.А. Извольской. Но он уже тогда начал хворать, прошел несколько операций, ослеп и неуклонно разрушался. Его партийные или идеологические друзья с ним постепенно разошлись, до того изменились его взгляды. Если не ошибаюсь, кто-то его даже обвинил в антисемитизме.
Есть такой дом для стариков, выздоравливающих, Nursing Home. На углу 79-й улицы и Третьей авеню. Туда поместили Керенского после его возвращения из Англии. Раз, очутившись в том районе, я решил наведаться к нему, в сущности, попрощаться. Мне назвали этаж и комнату и позволили подняться туда. В пустом широком коридоре не было никого. Я постучал и в ответ на хриплый возглас вошел.
– Кто это? – не то растерянно, не то испуганно.
Он сидел в кресле, с ногами, завернутыми в железнодорожный старомодный плед, и напряженно смотрел в сторону двери, хотя я уже был в центре довольно большой светлой комнаты.
– Это Яновский! – крикнул я поспешно. – Зашел вас проведать.
– А! Нет. Я очень занят теперь.
– Понимаю. Я сейчас уйду. Вас часто оставляют здесь одного без присмотра?
С профессиональной точки зрения это граничило с преступлением.
– Нет, нечасто. Она пошла что-то купить себе.
В связи с нашим журналом «Третий час» мне поручили собрать некоторые сведения относительно одного эмигранта, который просился в сотрудники журнала и с которым Александр Федорович встречался в Мюнхене. Я задал ему соответствующий вопрос, и Керенский сразу оживился:
– О, это ужасный человек. Он не понимает, что нельзя американцам позволить так разговаривать с русскими. Он откровенно сознался: «Мне на все наплевать, я коплю деньги и хочу купить виллу в Италии. Все остальное меня не касается: делаю, что приказывают»… Вот какой это тип!
– Как ваше здоровье, Александр Федорович?
– О, гораздо лучше. Я сделал ошибку, что поехал в Англию. Там они меня почти доконали.
– Можно вам как-нибудь позвонить, у меня еще есть вопросы к вам?
– Да-да, позвоните, – откровенно обрадовался он, – а теперь я занят, – и он повернул головку в сторону телефона, которого он достать рукой не мог и очевидно не собирался.
Его слова мне напомнили эпизод из жизни Салтыкова-Щедрина, который умирал от мучительной болезни, и когда к нему приходили с визитом, гости слышали, как он из соседней комнаты кричал слуге: «Занят, скажите, умирает».
В коридоре я встретил сиделку-японку, ухаживавшую за Керенским многие годы. Я постарался объяснить ей, что для многих русских неудачников, вроде Горгулова, стрельнуть в Керенского было бы прямой «путевкой» к славе. Но японка меня не поняла или не поверила мне.
Бунин порой вызывал улыбку за чайным столом Мережковских, где спорили о Третьем Завете, о Прусте, о доктрине трубадуров. Следует помнить, что Бунин был конкурентом Мережковского по линии Нобелевской премии, и это не могло порождать добрых чувств. Он все реже заглядывал в эту гостиную.
Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации – не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах Петербургско-Варшавской железной дороги.
– Это бритая лошадь! – скажет он об одном уважаемом политическом деятеле, и сразу какой-то туман прояснится: действительно, лошадь и бреется!
Вот в таких «предметных» образах была сила и прелесть Бунина. Кроме того, разумеется, личный шарм! Коснется слегка своим белым, твердым, холодноватым пальцем руки собеседника и словно с предельным вниманием, уважением сообщит очередную шутку… А собеседнику мерещится, что Бунин только с ним так любезно, так проникновенно беседует. Да, колдовство взгляда, интонации, прикосновения, жеста… До чего этим шармом была богата старая Русь и куда все девалось? Среди новых беглецов всё налицо, как полагается: талант, эрудиция, подчас убеждения, идеалы, а благодати шарма, обаяния – нет и нет.
Если по соседству с Алдановым неизменно приходила в голову сказка о голом короле, то с Буниным судьба сыграла совсем противоположного рода шутку, душевно ранив его на всю жизнь… Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. Это еще в России, при вспышках фейерверка Андреева, Горького, Блока, Брюсова.
Нетрудно заметить, что именно российская катастрофа, эмиграция, выдвинула его на первое место. Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачливым. А в Советском Союзе теперь о Бунине пишут: «…так и просится в хрестоматию…», не догадываясь, что место большого писателя отнюдь не в школьных пособиях.
Итак, Бунин легко занял первое место в старой прозе; молодая, вдохновляемая европейским опытом, определилась только в середине тридцатых годов и должна была еще воспитать своего читателя. Но стихи Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не писал до Второй Отечественной войны, когда круг исторический опять сомкнулся и снова появился спрос на отечественный пейзаж с коровьим мычаньем и запахом полыни или парного молока. Говорят, что мастера социалистического реализма теперь смакуют вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью.
Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ.
Имена Горького, Андреева, Блока, Брюсова порождали у него стихийный поток брани. Видно было, как много и долго он страдал в тени счастливцев той эпохи.
Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая перекликаться с дубравами, березками и жаворонками. Осмеянный, но самостоятельный отщепенец, он теперь мстил своим мучителям, брал реванш. Нельзя сомневаться, что для современного политбюро стихи Бунина все еще понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.
К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.
Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но «делает» он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов! Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого. У него вино пьют из фужера… Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом или не только в этом.
Можно проделывать чистенький акробатический номер в губернском цирке над прочно растянутой сеткой… Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.
Замечательно, что «последователь» Бунина Зуров, то есть эпигон эпигона, еще искуснее описывает поцелуй крестьянки или зимний наст. Тут выражена какая-то закономерность.
Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.