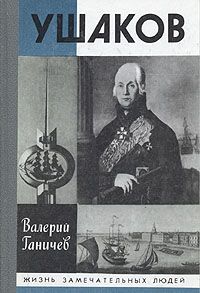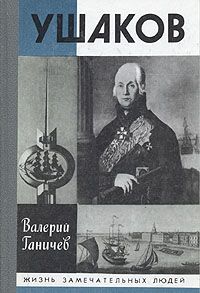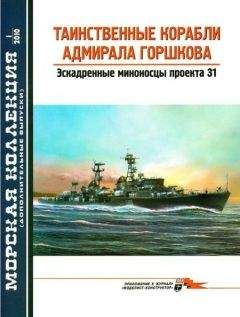Марианна Яхонтова - Корабли идут на бастионы
– Ну, что там копаетесь? – строго, но спокойно сказал Елчанинов.
Унтер ошалело посмотрел на командира и юркнул куда-то за плотную стену стоявших на баке матросов.
– Сию минуту, Матвей Максимович! – сказал мичман. – Сейчас канонир явится. Вы ведь его приказали назначить для экзекуции.
Дело было в том, что профос, обычно исполнявший наказание, три дня назад был свезен в госпиталь. Но капитан Елчанинов имел свою методу обходить в этом деле все затруднения. Наказывать провинившегося матроса не только мог, но и должен был, по его мнению, свой же брат матрос. Это должно было помешать всякому излишнему согласию в матросской среде. Вот почему капитан Елчанинов и приказал назначить на экзекуцию вместо профоса канонира Ивашку.
Но тут-то и возникло совершенно непредвиденное препятствие. Когда вечером, накануне дня наказания, унтер объявил Ивашке о наряде, канонир странно на него посмотрел, хотя и не сказал ни слова. Все знали, что Ивашка относился к паруснику с особой почтительностью, и не удивлялись, что приказание привело канонира в смущение.
Это был молодой парень, огромного роста, силач, который брал двадцатичетырехфунтовое орудие за задние обухи и бросал его прямо на прицел. Он сохранял еще простодушные привычки подростка, выросшего в дремучей глуши Вятской губернии, среди непролазных лесов и темных лесных рек. За эти привычки, а также за полное равнодушие к собственным интересам все считали его простофилей.
– Ну что, простая душа, драть завтра Трофима будешь, – сказал матрос Половников, толкнув Ивашку в плечо.
Половников слыл балагуром, который не пожалел бы родного отца ради того, чтоб почесать язык.
Канонир, как бы очнувшись, медленно посмотрел на балагура. Тихо, серьезно, с несвойственной ему решительностью он сказал:
– Нет, не будет Антонов драть своего брата!
Ответ был столь неожиданным, что матросы, развязывавшие на ночь койки, бросили свое дело и окружили канонира. Уж слишком прост всегда был Ивашка, чтобы от него можно было ждать таких слов. Половников шлепнул руками по бедрам и удивленно воскликнул:
– Милый, да с тебя же три шкуры спустят!
– Ну и что ж, пускай спускают. А рук своих марать не стану. Я свою службу знаю: мое дело у пушки стоять, с неприятелем биться. Драть – это не мое дело, не солдатское…
Никто тогда не принял всерьез слова Ивашки. Но все вспомнили о них теперь, когда произошла непредвиденная заминка. Матросы косили глазами на проход, куда юркнул унтер. Оттуда доносилось его подавленное озлобленное бормотанье. Вот, подталкиваемый в спину, на баке появился канонир.
Через минуту он уже стоял рядом с парусником, белый, как мел. Нижняя челюсть его дрожала мелкой частой дрожью. Унтер-офицер сунул ему в руки крепкий линек и свирепо тряхнул головой.
– Изготовься! – крикнул мичман.
Трофим Еремеев слегка наклонил спину и заложил за голову руки. Унтер встряхнул линьком, удобнее забирая его в свой крепкий красный кулак.
– На-чинай!.. – высоким срывающимся голосом крикнул мичман.
Линек просвистел в воздухе и опоясал плечи парусника. Было видно, как дрогнули его заложенные за голову руки. Красная полоса проступила на коже. Следующий удар был канонира, но Ивашка не двигался.
– Чего ждешь, мерзавец? – яростно крикнул Елчанинов, приблизившись к месту экзекуции.
– Бей! – истошно завопил испуганный мичман. Канонир медленно поднял голову и оглянулся, но не на Елчанинова и не на мичмана, а на молчаливо застывший строй матросов. Он увидел сразу все эти голубые и карие, напряженные и ожидающие глаза, обращенные на него.
– Да ты проснешься или нет, сукин сын? Запорю! – хрипло рявкнул Елчанинов.
Огромный канонир шагнул к нему и положил линек на край обреза с водой.
– Простите, православные! – пробормотал он. – Простите, ваше высокоблагородие! Не могу… душа не принимает.
И, не дожидаясь приказа, он начал стаскивать с себя рубаху.
…Парусника и канонира наказали жестоко. Когда вечером, после экзекуции, оба они, посиневшие и помертвелые, лежали на своих койках, стараясь по возможности не шевелиться, матросы приносили им воду и сухари, а слывший за сведущего в леченье старый плотник намазал исполосованную кожу растопленным салом, смешанным с настоем одному ему известных трав.
– Да как же это ты решился? – удивленно допытывался у канонира матрос Половников. – Сдерут с тебя кожу, простота, как пить дать, сдерут.
– А ты, умник, помолчи, – с трудом разжимая почерневший рот, заговорил Трофим. – Дадено тебе ума на алтын, так зря не расходуй, про запас оставь. А ты, Иван, на нас, дурней, сердца не имей, что жили с тобой рядом не один год, глупыми глазами глядели, а какой ты человек – не видели.
22
Из-под рубанка летели кудрявые золотистые стружки. Ветер сметал их, и они катились по земле, цепляясь за высохшую траву. Изредка Трофим Еремеев поднимал густо заросшую волосами голову и смотрел в пустую синеву, где проносились белые облачные тени. Там, в глубине неба, слышался далекий и смутный крик, зовущий и печальный.
Парусник оставил доску и прикрыл ладонью глаза. Крик повторился несколько раз, с каждым разом печальнее и глуше.
– Журавли, – сказал шепотом Трофим, словно боялся спугнуть невидимых птиц.
Капрал Павел Очкин, заравнивавший лопатой глину на завалинке дома, спокойно продолжал свое дело. Он каждый год провожал журавлей и уже не мог на них дивиться.
Теперь было видно, как летел мимо самого солнца черный треугольник птиц. Их крик удалялся, был уже едва слышен, но слабый стонущий звук тем сильнее брал за сердце.
– Путем дорогой! Путем дорогой! – напутствовал журавлей парусник.
Так обычно кричали в деревне улетающим птицам, желая им доброго пути.
Журавли неслись прямо в море, туда, где синева была всего гуще и темней.
У Трофима при виде исчезающих в просторах неба птиц, как всегда, пробудилось жгучее желание свободы. И самое ужасное при этом было знать, что свободы нет и никогда не будет.
Вновь взяв в руки рубанок, парусник с завистью сказал:
– Вот они летят… никого над собой не знают… Ничего, братец ты мой, нет лучше воли.
Очкин насмешливо посмотрел на Трофима и подхватил на лопату ком глины.
– А что бы ты с ней делать-то стал, с волей-то? Бродяжить, что ли?
– Нет, вольному человеку и на одном месте хорошо, – отозвался парусник, откидывая тонкую, тотчас завившуюся стружку. – А может, и посмотрел бы, как люди живут, – добавил он спокойно, как видно, желая быть вполне правдивым.
Павла всегда удивляло, что этот некрасивый и не очень складный человек не только внешне, но и внутренне не хотел себя прикрасить. Он не скрывал своих слабостей и не боялся, что о нем будут думать плохо.
– Я всякую работу люблю, – заговорил опять Трофим, – а ежели б вольным был, то на всякое дело не было б меня удалей.
– А по-моему, работа людям в наказание дана.
– Э, брат, не дело говоришь… Работа не наказание, а дар, какого дороже нет, – убежденно возразил парусник, но лучше объяснить своей мысли не мог. Не мог он объяснить и того, что любимое дело становится постылым, если человек прикован к нему.
Да они и без того порой плохо понимали друг друга. Много лет они служили на одном корабле, и каждому казалось, что другой меняется и, конечно, к худшему. Красивый и ловкий Павел был моложе парусника, но по службе обогнал его и числился уже капралом. Он обладал многими талантами, но выбрал из них один главный и теперь имел славу лучшего артиллериста на эскадре. Очкин хотел во что бы то ни стало выбиться в люди. Для человека простого это был долгий и порой безнадежный путь. Но Павел был упрям и, раз задумав дело, никогда не отступал.
Прежде всего он решил скрепить свою жизнь «законом». Тотчас после окончания войны он посватался к дочери ластового офицера, заведовавшего пошивочной мастерской и амуницией. Офицер, человек суровый и осторожный, чинил матросское одеяние, как видно, довольно успешно, ибо дочка его, помимо добрых качеств жены и хозяйки, принесла мужу и небольшие деньги в приданое. Теперь Павел мог подумать о собственном доме. Адмирал всегда шел навстречу людям семейным. По первой же просьбе капрала он приказал выдать ему материал для постройки.
Павел Очкин сам работал по строительству города, и ему нужен был только помощник. Он пытался договориться с корабельным плотником, но плотник запросил слишком много.
– Салтан ты, братец, форменный салтан, ежели так со своего брата дерешь, – укорял Трофим плотника.
И капрал Очкин тут же решил, что всего лучше позвать в помощники самого Трофима.
Они работали по вечерам и в праздники, после обеда.
Стояла осень, ясная и сухая. Флот уже около двух месяцев, как вернулся с маневров и теперь готовился к зимовке. Ветры основательно расшатали суда. От знойного солнца смола вытопилась из палуб и бортов, пазы пропускали воду. С кораблей снимали поврежденный рангоут и пушки, требовавшие ремонта. Кроме того, предстояла долгая зимняя работа по постройке казенных зданий – казарм и магазинов.