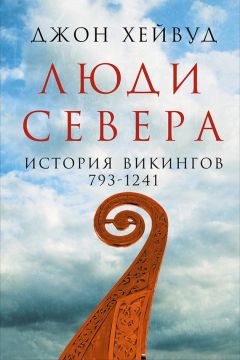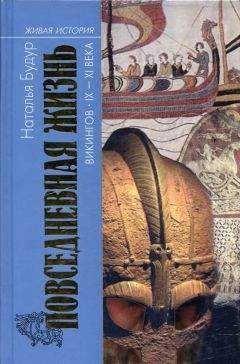Фаина Оржеховская - Себастьян Бах
Я знал книги сухие, бездушные, хотя авторы клялись в своей любви к людям, и знал добрые книги, и книги, полные молодости, хотя их создатели уже перешагнули за седьмой десяток. Я видел хмурые картины художников, которых считали весельчаками, да и сами картины были написаны на игривый сюжет. Но улыбки в них не было. Я слушал музыку, глубокомысленную по построению, но лишенную мысли. И я думал: бедные дети Аполлона! Вы и сами не подозреваете, до какой степени выдаете себя!
Вас это удивляет, мой друг? Вы смотрите на меня такими большими глазами. А между тем то, что я сказал вам, очень важно… Будьте правдивы. Правда – это волшебная палочка, которая знает, где зарыт истинный клад.
Ну, на сегодня довольно,– сказал он, – идите, работайте!
Он отпустил Мендельсона, но через день возобновил с ним разговор о Бахе. Снова он взял в руки партитуру «Страстей» и, только чуть закинув назад голову, просмотрел первую страницу. Очков он не носил и не признавал их.
– Значит, вы беретесь за этот труд. Не скрою от вас, милый Феликс, сейчас это вам еще не по силам!
Затем ласково прибавил:
– Но вы справитесь с этим потому, что вы за это беретесь. Потому, что силы человека растут, особенно в благородном труде. Сегодня вы уже не тот, кем были вчера. А завтра вы будете сильнее, чем сегодня. Вы работали вчера до поздней ночи, вы играли, думали… Разве это проходит бесследно? Через месяц вы будете уже в силах поднять эту тяжесть. Так-то! Надо действовать – вот и все.
– О, я так благодарен вам!
– За доброе слово? Что ж, принимаю эту благодарность, я ее заслужил. А вам трудно придется с музыкантами. Чтобы воспитывать артистов, нужно бесконечное терпение – я это по опыту знаю. А потом еще критики… Но вы не бойтесь их. Не бойтесь, даже если их очень много. Я имею в виду несправедливых критиков.
– Если я прав, чего же мне бояться? Я сумею доказать…
– Как? Если я прав?
– Вот именно. Я до сих пор не могу доказать противникам мою правоту. И так и умру, не убедив их.
Но самое любопытное из всего, что сказал Гёте, было его отрицание религиозной сущности «Страстей».
Мендельсон знал о его скептическом отношении к христианству, но применительно к Баху это показалось ему странным.
– Если вы хоть на минуту допускаете мысль, что это произведение для церкви, вам надо отказаться от мысли исполнять его в концертном зале, – с убежденностью сказал Гёте.– Я не шучу: лучше теперь же все бросить, чем допустить неверную трактовку.
– Мне и самому это приходило в голову, но…
– Вот вам одно из доказательств, что я прав: я старый, убежденный язычник, к христианству совершенно равнодушен, и, если эта музыка произвела на меня такое глубокое впечатление и нисколько не приблизила меня к религии, значит, она далека от церкви, и от попов, и от высохших мощей апостолов, и от всего им подобного.
Смущенный Мендельсон возразил:
– Но христианские образы вдохновляли многих художников!
– Милый мальчик, если какой-нибудь религиозный сюжет хорош и может вдохновить, то лишь такой, в котором есть человеческое. Например, молодая мать с ребенком на руках. Вот вам и многочисленные Мадонны! Клянусь, это для меня святее всего другого. Прекрасный земной образ!
– Но, однако, служители религии всегда прибегают к музыке.
– Чуют, что может им пригодиться! Еще бы! Для веры необходимо нечто таинственное, что не поддается законам разума, но действует непосредственно на чувства. Вот почему духовенство прибегает к музыке. Но до известного предела. Там, где музыка уж слишком задевает наши чувства, церковники идут на попятный. Уверен, что Бах терпел более всего от попов. Его музыка порой прямо-таки рвет свою церковную оболочку. Здесь начинает властвовать другой бог: человек и его стремления…
А кстати! – сказал Гёте уже в конце разговора.– Почему эта музыка так захватила вас? Можете вы это объяснить?
– Почему? Она гениальна. В ней есть нечто небывалое.
– Небывалое? Даже по сравнению с позднейшими композиторами? С Бетховеном, например?
Мендельсон не знал, что ответить, а Гёте зорко глядел на него.
– Пожалуй, он настолько своеобразен…
– Знаете ли, что я вам скажу, мой милый? Баха надо все время догонять. Я думаю, современники в нем не разобрались… Должен был пройти целый век, пошатнуться троны, появиться Моцарт и Бетховен, чтобы музыка Баха стала понятна нам…
Провожая Феликса, он сказал на прощание:
– Через сто лет она будет еще понятнее!
Глава пятая. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Вернувшись в Берлин, Мендельсон приступил к репетициям. Цельтер, дав согласие, предложил, однако, собственное редактирование «Страстей», которое считал обязательным. Он «подправил» Баха, желая приблизить его к современным вкусам, и это более всего раздражало Мендельсона. Он еще соглашался на некоторые перестановки в оркестре, вроде того, чтобы виолончели были расположены справа, а детский хор стоял не посередине между двумя «взрослыми» перекликающимися хорами, а у самого края сцены. Но всяческие изменения инструментовки и гармонии, на которые отважился Цельтер, а также рекомендованные им сокращения казались Мендельсону недопустимыми. Несколько раз он заявлял профессору, что бросит дело, – пусть за это берется другой, но пусть знает, что на него обрушится беспощадная критика. Цельтер никогда не видел обычно уравновешенного Феликса в таком возбуждении, да и сам Феликс порой устрашался собственной дерзости. Но иначе поступать он не мог.
Его родители были также обеспокоены: за время подготовки к концерту он сильно похудел, нервничал и целые дни пропадал – то на репетициях, то в библиотеке, то у органа в академии. Музыканты оркестра приходили к нему на дом группами, он запирался с ними в зале. Часто они оставались ночевать, и тогда всю ночь в комнате Феликса раздавалась музыка и громкие разговоры. Он охрип. Родители обращались к Цельтеру с жалобой на сына, но не находили в нем никакой поддержки: сам он в эти дни волновался и говорил всем резкости.
Только сестра Мендельсона, Фанни, сочувствовала ему, приводила на репетиции приятелей и подруг, которые высиживали целые часы в зале академии, и уверяла отца и мать, что они должны лишь радоваться тому, что происходит.
Фанни всегда первая узнавала от брата, что он замышляет и как идут дела. Она сама была талантливой музыкантшей, и даже Цельтер назвал ее второй Наннерль – в честь одаренной сестры Моцарта. Фанни нисколько не сомневалась, что исполнение «Страстей» выдвинет ее брата на первое место среди немецких музыкантов. Вся музыкальная молодежь была наэлектризована, тем более что член этой беспокойной компании, Эдуард Девриен, исполнял в «Страстях» трудную партию баритона.
В летописях церкви святого Фомы сохранилась дата первого исполнения «Страстей» Баха– одно из немногих сведений о его жизни, дошедших до потомков благодаря неутомимости Форкеля. Этот день должен был стать юбилейным, а в истории музыкального искусства – переломным и решающим.
И вот одиннадцатого марта тысяча восемьсот двадцать девятого года, ровно через сто лет после того, первого, тягостного для Баха исполнения «Страстей», они были исполнены вновь в концертном зале Берлинской певческой академии, под управлением Феликса Мендельсона. На этот раз выступали уже не шестьдесят человек, а все четыреста. Два больших оркестра вели повествование, два больших хора, расположенные на возвышении в противоположных концах сцены, отвечали друг другу. Солистами были лучшие певцы капеллы и оперы, голоса маленьких певчих, хорошо обученных и подготовленных, звучали ровно и чисто.
На сцене, позади органа, висел большой портрет
Баха работы неизвестного художника. Странен был вид Иоганна-Себастьяна в его старинной одежде, с нотами в руках. Огромный парик не шел к его смуглому лицу и проницательным глазам. Странно было и выражение его лица, словно он недоумевал, как попал он в этот ярко освещенный зал, переполненный людьми, непохожими на его современников.
В зале не было свободных мест. Многие стояли у стен. Те, кто присутствовал на генеральной репетиции, рассказывали о «Страстях», как о великом событии. Среди молодежи пронесся слух (он подтвердился потом), что все исполнители «Страстей» – все до единого– и даже переписчики нот отказались от вознаграждения в пользу бедных сирот Берлина, чтобы только бескорыстная любовь к Баху руководила музыкантами в их работе. Все они были в каком-то экстазе и не хотели расходиться после репетиции.
Публика все прибывала. Цельтер.сидел в ложе, держа в руках копию партитуры. Гёте не мог приехать на торжество своего любимца – он прихворнул, и близкие его не пустили. Зато приехала его невестка, госпожа Оттилия, со старшим сыном, любимым внуком Гёте.
Тем не менее Цельтер хмурился. Он готов был упрекать себя за то, что поддержал эту затею. Правда, на генеральной репетиции все шло хорошо, и публика вызывала Мендельсона, но то была избранная публика – музыканты, литераторы, актеры. А сейчас явился, кажется, весь Берлин! И это очень рискованно, потому что многие и Бетховена не понимают. А тут такая старина! И ведь по настоянию юнца вся она так и осталась. А сам Феликс только что в артистической был бледен как бумага. Выдержит ли? Ведь он в первый раз управляет такой громадой!