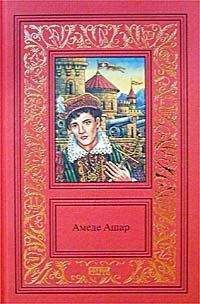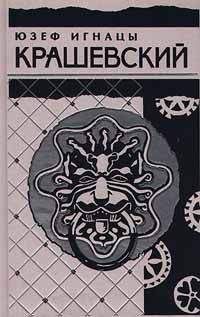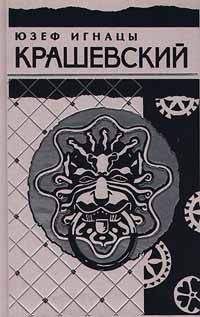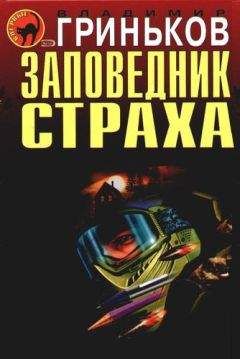Павел Шестаков - Омут
— Кажется, да. Значит, руку и сердце вы предлагаете мне не свои?
— Увы! Не жалейте об этом, — произнес он с небеззлобной иронией, — зачем вам мужчина на один раз? Или как там… Истинный брак заключается на небесах, навсегда…
— Я никогда не буду венчаться в церкви! — воскликнула она гневно. — Это кощунство!
— Я так и думал. Обойдемся гражданской регистрацией. Но уж этого не избежать.
— Хорошо. Вы и жениха подобрали?
— Я налет, а не сваха. Вам никто не понравился из тех двоих молодых людей?
— Только не нэпман.
— Жаль. По своему положению он более подходящая фигура. Значит, Юрий?
— У него невеста. Она может не понять…
— Понять должен он. А невеста может вообще ничего не знать.
— И все-таки мне нужно подумать.
«Нужно посоветоваться с Барановским!»
— Время не ждет.
— Я понимаю.
Техник поднялся. На этот раз, чтобы уйти. Но задержался у столика, на котором лежала Библия.
— Вы находите утешение в этой книге?
Она смолчала, потому что не могла говорить с ним о сокровенном.
— А я нахожу. Вот послушайте.
Он откинул переплет, перелистал несколько первых страниц и прочитал:
— «Всех же дней Мафусаила было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер». Каково, Софи? Все-таки умер! Разве это не утешительно?
— А сколько рассчитываете прожить вы?
— Кто знает… Кто знает… Господь милостив к преступникам.
— Вы так думаете?
— Ну, еще бы! Вспомните судьбу Каина. Правда, сначала господь возмутился: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли!» И не удивительно. Ведь это случилось задолго до гражданской войны, люди еще не привыкли, чтобы брат шел на брата. Однако господь не хватается за наган и не тащит Каина в гараж, чтобы вывести в расход под шум первого автомобиля. Нет, он говорит ему: «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». По-моему, туманно. Но Каин — трус. Он еще не набил руку на убийствах и дрожит. Он боится, что его самого может убить всякий, кто встретится. И тут, Софи, главные для нас строки! Надежда и опора наша. Слушайте! «И сделал господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его»! — Техник захлопнул Библию. — Так станем же богатыми скитальцами и изгнанниками. С нами бог!
— Я не уверена, что эти строки имеют отношение ко мне.
— В каких же вы тогда ищите свое утешение?
— В писании сказано: «Не мечите бисер перед свиньями!»
Это сорвалось, потому что он был отвратителен ей, и, видя, как белеют его щеки, она тут же поправилась:
— Это значит, что я ищу утешение в себе самой.
— Ах, вот как… А я было обиделся. Меня, знаете ли, давно не оскорбляли. Отвык. Всего хорошего!
Проходя под старой, с темно-красным стволом, давно не приносящей плодов вишней, Техник произнес почти вслух:
— Она мне заплатит! Она заплатит…
* * *Наум пересказывал Третьякову сведения, поступившие от Шумова. Третьяков слушал внимательно, но вдруг прервал:
— Черт!..
Наум остановился, ожидая пояснений.
— Да не вовремя этот Пряхин забузил! Он бы нам сейчас вот так полезен был!..
Третьяков провел по горлу ребром ладони.
— Теперь уже лишь бы не опасен. С его-то мутью в голове, — заметил Миндлин.
— Ладно. Значит, у него есть сестра, бывшая гимназистка. У той — жених, бывший офицер. И приятель Техника.
— Даже почитатель.
— Но пока не в банде?
— Вот именно — пока.
— А ты думаешь, Техник Шумова и офицера в банду затягивал?
— Куда ж еще?
— В банде у него другой народ. Тут что-то еще…
— Последнее время эта сволочь потеряла всякое чувство реального. Грозятся открыто. Подбрасывают листки на базарах — власть, дескать, наша…
— Читал: «Перебьем чекистов…» Вот эта наглость меня и настораживает.
— Техник фактически в открытую пьянствует по кабакам. Вербует людей…
— Вербует. Но нужно узнать, для чего.
— Значит, брать его пока не будем?
— Пока Шумов не собрал все об их замыслах, ни в коем случае.
— Я понимаю, взять Техника сейчас — значит демаскировать Шумова, но и позволять им подрывать наш авторитет…
— Не подорвут.
— Врагов слишком много.
— Ну, если б слишком было, мы бы уже тут не сидели.
Третьяков откинул на спинку стула свое крупное тело.
— Однако контрреволюция еще имеет резервы.
— Имеет. Ограниченные. Недобитки, в основном.
— А новый частник?
— Самойлович? Который тебя в детстве по головке гладил?
— Представляю, с какой радостью он свернул бы мне сейчас эту головку.
— Не исключено. Политические его симпатии понятны, а вот конкретные связи с врагами…
— Такой в шкурных интересах и с Техником свяжется.
Третьяков взглянул на часы:
— Поздновато, однако. Но что поделаешь, у каждого своя забота — им связывать, запутывать, нам распутывать. На сегодня задача ясна?
Задача была ясна. Она определилась не сегодня и всегда была трудна. Сегодня были только свои дополнительные особенности: узнать, выяснить, уточнить, принять меры, ликвидировать — все это почти полностью, до предела занимало время и мозг, а дома между тем болел, задыхаясь в кашле, горел в жару, а может быть, и сгорал ребенок, маленький и единственный сынишка.
Когда Наум заполночь вошел в свою комнату, у кроватки сидел Гросман. Сердце сжалось: неужели совсем плохо?
Доктор понял его состояние и сразу же сказал, вставая:
— Кризис позади. Он спит.
Мальчик действительно спал. Ослабевший, исхудавший, едва видный под простынкой.
На табурете рядом стояли медицинские банки, скипидарная растирка.
— Спасибо, доктор.
Гросман поклонился и надел старый пиджак, который повесил на спинку стула.
— Ваша жена знает, что нужно делать. А я пойду.
— Я провожу вас.
— Не стоит.
— Я все-таки провожу. Очень поздно.
Доктор взял маленький саквояж, и они вышли.
Стояла очень светлая ночь, какие бывают в ясное полнолуние. В голубом потоке света тени казались особенно черными и четкими. Тени домов стлались полотнищами, будто на какой-то огромной веревке вывесили гигантские простыни и наволочки. Зато деревья отражались причудливыми арабесками. Ступать по ним невольно хотелось с осторожностью, чтобы не повредить хрупкие узоры ветвей. Длинноногий Наум их перешагивал, невысокий доктор старался обойти.
— Вам нужно беречь вашего мальчика.
— Может быть осложнение?
— Нет, не думаю. Я о другом.
— О другом?
— Да. Совсем о другом. Я наблюдал за вашим ребенком. У него тонкая организация. Он очень впечатлительный. В его глазах я видел вековую печаль нашего народа…
Наум не любил таких разговоров, но ему не хотелось возражать доктору, который выходил его сына.
— Вы хотите что-то посоветовать?
— Да. Вот именно. Вам.
— Я вас слушаю.
— Если вы любите вашего мальчика — а как же вы можете его не любить! — вы должны больше думать о нем.
— Поверьте, дороже его…
— Вот-вот! И поэтому вы должны думать о нем. То есть вы должны беречь себя, чтобы сберечь его. Больше беречь себя.
— Вы же знаете, кто я, Юлий Борисович, я…
— Погодите! — не дал ему договорить Гросман. — Вы революционер, я понимаю, и поэтому есть много людей, которые желают вам зла.
— Не мне одному. Я не могу беречь себя больше, чем позволяет обстановка.
— Ах, я все это знаю. Вы верите в преобразование мира. Но если вы так уж верите, то подумайте, для кого вы хотите его преобразовать? И может ли всемирное счастье заменить ребенку отца?
— Всемирное счастье тоже кое-что значит, — возразил Наум мягко.
— Но я обыкновенный детский врач, и я думаю о детях, которых лечу. А что касается мировой революции…
— Вы просто не верите в нее.
— Если хотите знать правду, я не верю. Но я не собираюсь вас агитировать.
«Сколько же их, еще неверящих, — подумал Наум устало, — а ведь он умный человек. И не эксплуататор, не то что этот жулик Самойлович…»
— И не нужно. Но почему вы заговорили о людях, которые желают мне зла? Это общая мысль или конкретная?
— А вы не знаете?
— Я знаю, что моя жизнь всегда в опасности, но если вы имели в виду определенных людей…
— Я не осведомитель! — Доктор вскинул голову, и очки его сверкнули в лунном свете. — Я только человек одной с вами крови. Я хочу вам добра.
— А Самойлович? Он тоже хочет мне добра?.
— Почему вы спросили о Самойловиче?
— Недавно мы говорили с ним и не поняли друг друга. Вот вам и кровь. Нет, в кровь я не верю, как вы не верите в мировую революцию. Я верю в братство людей и в классовую борьбу.
— Как можно совместить братство и борьбу?
— По законам диалектики. Это наука.
— Мне чужда наука, оправдывающая вражду.
Что он мог ответить Гросману? Еще в детстве Наум не понимал, почему всемогущий бог разделил людей между своими пророками и они, поклоняясь кто Христу, кто Моисею, кто Магомету, так охотно поднимают руку друг на друга. Потом он увидел, что от вражды не защищены ни стан единоверцев, ни даже сердца родных. Он сам убедился в этом, когда ушел в революцию, не оправдав надежд семьи. Его дед выстаивал с лотком на улице под солнцем и снегом, отец был уважаемым бухгалтером, а сына прочили в солидные коммерсанты. Маркс открыл ему глаза, и темный мир вражды и бедствий оказался вдруг ярко высвечен всепроникающим светом единственно верной теории.