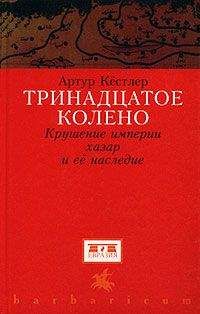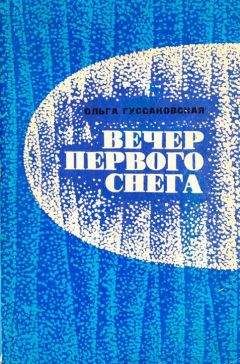Аркадий Макаров - На той стороне
Опять – что делать, и кто виноват?
До жилья километра полтора будет. Пока доберёшься – обледенеешь.
Сергей Степанович полушубок «чёрной бурки» – на лёд. Валенки – на лёд, шапку – на лёд.
– Раздевайся, Макарыч, меняться будем!
Отец в одних кальсонах остался. Ноги в валенки сунул, полушубок на голое тело, и бегом в деревню. Сергей Степанович в резиновых сапогах и в гимнастёрке – за ним. Трусит. Отец нащупал в кармане бутылку, на ходу опорожнил её. Вроде, потеплело.
Добежали до крайней избы, а уже огни зажги. На улице сине-сине.
Колотят в дверь.
Выходит дедок сухонький, маленький, пальцем сковырнуть можно, а не пройдёшь.
Стоит в дверях, щурится, в бороде чего-то ищет. Борода масляная, в крошках, только что из-за стола вылез. Не поймёт – чего это мужики в дверь барабанят, когда изба не на запоре? Странные какие-то люди – один в гимнастёрке, воротник расстегнул – жарко, а другой в шубе, согнулся пополам и зубами дробит. Вгляделся, вроде, признавать стал:
– Бондарский?
– Бондарский. Бондарский, – отвечает за отца из-за спины Сергей Степанович.
– Васька?
– Да, Васька! Васька! Впусти, видишь, мочи нет!
– Ждать да догонять, оно, конечно… – философствует старик, соображая, почему это почётный киномеханик (узнал всё-таки старик кинопередвижника) в таком непристойном виде зубами стучит и мычит по немому, а ведь говорил как!
– Впускай, дед! А то у тебя здесь на крыльце концы отдашь!
– А чё? Разве я не впущаю? Заходите! – топчется в проёме дед. – Чего стучаться? У нас завсегда открыто.
Но тут в широко зевнувшей избяной двери показалась широкая, как русская печь, старуха – не позавидуешь деду.
– Дурак старый! – взялась она сходу. – Не видишь, что ли, человек чуть не уходился? А ты его на морозе держишь!
Вошли в избу. Хлебом обдало. Лампа с матиц свешивается, жёлтым язычком свербит, дразнится. В углу на раскидистой соломе розовый, как дитё, поросёночек губами причмокивает, после похлёбки ко сну готовится. Чело печи жаром пышет, протоплена, лишь там, кое-где, на угольях вспархивают голубые бабочки – угарный газ выгорает. Хорошо, справно живут старики.
Сергей Степанович повалился на лавку, полез за куревом, а отец затоптался у печки, не зная, куда прислониться. Тело – как кровельной жестью покрыто, ничего не чувствует и не гнётся, лишь только где-то там, в груди, как тот поросёнок, причмокивает и ворочается комочек живой – сердце.
– Ах, ты бяда какая! – закружил возле старичок, захлопал крыльями, как молодой петушок, вытягивая, тоже по-петушиному, жилистую шею.
Было видно, что он хочет от души сделать что-то для гостей хорошее, а что – не знает.
– Чего толкёсси, хрен старый! – благой его порыв осадила старуха. – Видишь, человек залубенел! Ему баня нужна, парком отойти, а ты бестолку приплясываешь!
– Баньку? – кинулся старик в дверь. – Это я щас растоплю, бондарцев попарю!
– Чего растоплять будешь? Пока ты растопишь, этот твой Васька окочурится. Скидай полушубок! – скомандовала она непрошенному гостю, с которого уже сочились водой оттаянные в тепле кальсоны.
Гость жмётся. Как скинешь полушубок, если под ним тело голое, а баба, хоть и старуха, а женщина? Нехорошо…
Старуха велела дедку выметать из печки угарный жар.
– Да чтоб чисто было, как в горнице! – скомандовала она.
В избе тепло, а у гостя зуб на зуб не попадает. Трясёт всего. Руки не слушаются. Совсем плохой стал.
Сергей Степанович снял с него полушубок и расстелил на лавке, как приказала хозяйка. Затем они вдвоём, пока старик возился у печки, положили страдальца на полушубок.
– Держи родимца за плечи! – старуха пошарила на полке под цветастой занавеской и достала небольшой зелёный шкалик с гусиным жиром, настоянном на перваче. – Щас, мы его с Божьей помощью поправим! Кальсоны-то с него сними!
А тот как ухватится руками за ширинку, так и ни в какую! Пальцы не отдерёшь.
– Чего ты жмёшься, как девка цельная? Разымай руки! – старуха развязала на кальсонах тесёмки и быстрым движением выпростала наружу всё, чем дорожил полузамёрзший гость.
Она налила в ладонь густого, тягучего, как свежий мёд, жира, и стремительными круговыми движениями стала растирать обречённое на глубокую простуду мужское тело, особенно грудь и спину.
Постепенно под жёсткими пальцами пожилой женщины тело стало отходить, приобретать прежнюю чувствительность, невыносимо отдаваясь болью в суставах. От боли отец стал стонать.
– Ну, слава Богу, отмягчило! Теперь его попарить чуток надоть, мороз из-под кожи повыгонять, а то, чего доброго, насморк получит!
«Какой насморк? После этого у Макарыча точный туберкулёз будет! Вон лежит весь скукоженный!» – перебирая губами, крутит цигарку Сергей Степанович.
Тем временем старухин довесок, засунув голову под самый свод печи, гусиным крылом выметал половые кирпичи, чтобы ни уголька, ни золиных крошек не оказалось.
– Всё! – облегчённо ворохнулся дедок, сползая с загнетки на пол. – Чисто, как у меня на лысине!
Старуха подхватила с земли большую охапку соломы и в несколько слоёв выстелила под печи. Из чела пошёл-потянул дух нагретого на солнцепёке хлебного поля, словно вломился в избу, раздвигая стены, августовский полдень.
Старуха налила чугунок воды и рогачом вдвинула этот чугунок в самый угол печи. Постояла, подумала, всунулась сама по пояс в печь.
– Ну, теперь в самый раз! Чего лежишь? – прикрикнула она на съёжившегося под её взглядом голого мужика на лавке. – Полезай в печь!
Отец слышал, что в старину в деревнях мужики часто парились в объёмистых русских печах, выгоняя по-своему лихоманку и всякую хворь из костей. И – ничего! Жили, детей рожали, песни пели, вон какие просторы освоили! А вот самому лезть в пекло – боязно, поджаришься заживо, как тот бабкин колобок…
– Ничего, ничего, – подбадривала старуха. – Я сама в зиму разика два-три ревматизму там выпариваю. Помогает лучше всяких мазей. Ты только к кирпичам не прислоняйся. Руки-ноги калачиком – и сиди, а я тебя заслонкой прикрою. Как станет невмоготу, ты себе водицей из чугунка голову и смачивай, и смачивай. Ну, полезай, милок, с Богом, я отвернусь, смотреть не буду, – успокаивала она начинавшего приходить в себя мужика, хотя минуту назад растирала его везде руками.
Отец, постанывая, полез в печь. Там, конечно, в рост не выпрямишься, но, если сидеть, всунув голову между колен, то уместиться можно.
– Сиди, родимец! Сиди! Коль припечёт маленько, ты водичкой виски и смачивай. Смотри, зря воду не лей, ошкваришься!
И – хлоп заслонкой!
Солома прохладная под ногами, как шёлк выстелен. Ноги разъезжаются. Но сидеть можно.
Вот и сидит отец, узлом завязался, русским тугим узлом, таким, на котором вся Россия на Полярной звезде держится, как колыбель на гвозде матичном. Сидит, подбородок между колен, дышит через нос, как бабка велела.
Исподнизу хорошо, солома тепло в себя вобрала, а нагреться не нагрелась, скользит под пяткой. Вот макушку припекает только, и в ноздрях как горячей махорки насыпали. Воздух жжётся. Попробовал дышать ртом. Закашлялся. Вроде угольную головешку в горло засунули. А тело слабнуть стало. Ну, если можно сказать по-научному, релаксация наступила, плывёт тело.
Всё бы ничего. Да только после гусиного жира под кожей как муравьи завозились, да не наши родные, а красные, африканские. В сухом жаре гусиный жир, вроде, как закипать начал – потоотделение затруднено, капилляры забиты, без радиатора пошёл перегрев организма. В глазах – как радужные мыльные пузыри поплыли. Он и заколотил по заслонке. А бабка заслонку кочергой подпёрла и держит.
– Потерпи, родимый, потерпи!
А как терпеть, если по коже не муравьи, а скорпионы лапками застучали, клешнями засвербели. Теперь уголья из гортани в грудную клетку просыпались, весь хмель, ту самую поллитру Сергея Степановича через лёгкие выпарили. Невмоготу стало.
– Открой заслонку, бабка!
– Потерпи чуток! Болезнь в костях томится. Вот когда жар до костей доберётся, тогда – что, тогда – хватит.
Сергей Степанович снаружи подзуживает:
– Слаб, Макарыч, а божился, что на Беломоре финскую баню принимал. Сауну какую-то! Вот она, русская сауна, покруче будет! Терпи, казак, атаманом будешь!
Вспомнил отец про чугунок с водой, нащупал в углу руками, да и опрокинул на себя – зачем виски смачивать, когда всё тело горит.
Опрокинул он чугунок, а вода возьми, да и просочись сквозь солому. Пока солома сухая была, сидеть ещё ничего, можно, а как вода камни достала, ошпарила их, пар исподнизу гейзерами и взорвался. Вышиб отец заслонку и, забыв основной мужской инстинкт, с распахнутыми руками, дико матерясь, вымахнул на улицу и – в сугроб.
Слава Богу, снег от первозимья ещё не отошёл, ещё не очерствел – если прыгнуть с крыльца, то по шейку в сугроб уйдёшь.
Извивался отец в снегу, пообмял сугроб, пришёл в себя, осмотрелся – мать честная! На улице люди ещё по хозяйству управляются, ещё как следует, не смеркалось, а он – вот он! Как новый полтинник серебряный, той чеканки, где вместо орла представитель освобождённого пролетариата на земном шаре раскорячился.