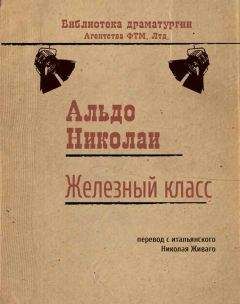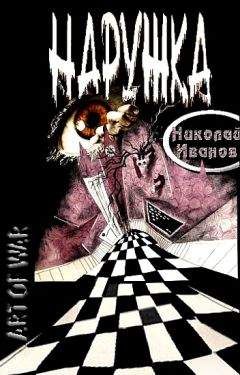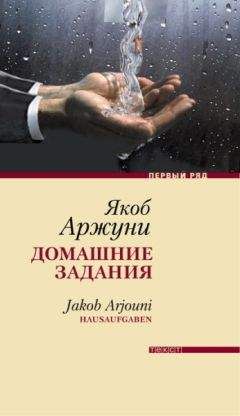Золото Кёльна - Шир Петра
Однако оба шеффена были богатыми купцами, и ни одного из них Николаи не лишал состояния. Уж об этом бы она знала.
— Добрый день, госпожа Алейдис.
Иоганн Хюссель — он был старшим из двоих — тут же обернулся к ней с доброжелательной, хотя и обеспокоенной улыбкой.
— Надеюсь, у вас все хорошо? Мы слышали о подлом нападении на вас сегодня в поддень. Какая удача, что с вами оказался господин полномочный судья. Слава богу, Винценц ван Клеве способен поставить на место зарвавшееся отребье. Нападение на почтенную вдову прямо на улице посреди бела дня — ни Совет, ни шеффены этого просто так не оставят, уж будьте уверены.
— Спасибо, господин Хюссель, — поблагодарила его Алейдис с самой любезной улыбкой, на какую только была способна, а про себя с облегчением подумала, что, судя по всему, ни он, ни ван Кнейярт не питают к ней неприязни. — У меня все хорошо.
— Господин полномочный судья сказал, что в вас попали камнем. — Лицо ван Кнейярта выражало глубокую обеспокоенность. — Надеюсь, вас не сильно задело.
— Могло быть и хуже.
— Да уж, могло, но, к счастью, ван Клеве смог предотвратить это. И ваш добрый Зимон также храбро защищал свою госпожу.
Алейдис удивленно вскинула голову.
— Это господин ван Клеве вам так сказал?
— Он подробно описал все, что произошло, и подал иск. Поскольку он сам является заинтересованным лицом, судьей будет выступать Георг Хардефуст. Полагаю, вы также хотите выдвинуть обвинения, госпожа Алейдис?
Она подумала и кивнула.
— Думаю, что мне стоит это сделать.
— Справедливо, что вы требуете возмещения ущерба и, конечно же, наказания виновных. — Хюссель ободряюще ей улыбнулся. — Если хотите, можете рассказать нам о том, что произошло, прямо сейчас. Тогда вам не придется лишний раз ходить в ратушу. А потом мы допросим ваших слуг и домашних.
Алейдис согласилась и пригласила шеффенов в гостиную. Эльз принесла кувшины с вином и элем и тарелку с маленькими сладкими медовыми булочками из мелко просеянной белой муки.
Изложить свою версию произошедшего оказалось для Алейдис проще, чем она думала. Первоначальный шок прошел, и осталось лишь желание узнать больше о том, что толкнуло Хиннриха Лейневебера на такой поступок. И хотя после того, что поведал ей ван Клеве, она могла понять этого беднягу и даже где-то посочувствовать ему, она согласилась с шеффенами, что за нападение на нее он должен быть наказан плетьми или розгами. И те, кто напал на нее потом, тоже должны понести наказание, причем куда более суровое, ведь они действовали исподтишка и без всяких явных на то причин.
Шеффены провели в доме остаток дня и откланялись, лишь когда колокола возвестили окончание вечерни. Они подробно расспросили каждого проживавшего в доме Алейдис о событиях последних двух недель. Алейдис присутствовала при допросе, лишь изредка отлучаясь в меняльную контору. Когда все, наконец, завершилось, она вздохнула с облегчением. Шеффены почти не упоминали о незаконных делах Николаи, а если и упоминали, то говорили об этом обиняками. Алейдис убедилась, что лишь Вардо и Зимон были в курсе всего. Ирмель была слишком тупа, а Герлин — слишком молода, чтобы задумываться, как именно их покойный господин сколотил состояние. Из Лютца не удалось выжать ни единого слова. Но он так давно служил семейству Голатти, что либо предпочитал держать язык за зубами из уважения к другим домашним, либо просто закрывал на все глаза. А Эльз так много разглагольствовала о несправедливости мира, в котором больше нет такого доброго и честного человека, как Николаи, что и здесь могло сложиться впечатление, что она не имеет ни малейшего представления о том, чем он занимался на самом деле.
С неохотой Алейдис пришлось признать, что ее муж очень умело поддерживал реноме респектабельного хозяина меняльной конторы. Если даже большинство слуг ничего не заподозрили или были настолько преданны, что не нарушили молчания даже перед лицом его насильственной смерти, то не свидетельствует ли это в пользу доброй стороны его натуры? Она предпочитала не задумываться о худшем варианте, а именно о том, что и на слуг с горничными у него что-то было. Ей не хотелось полностью расставаться с тем образом Николаи Голатти, который сложился у нее за время брака. Муж всегда был добр и щедр к ней, а также справедливо и доброжелательно относился к слугам. Он не был чудовищем! Затем Алейдис снова вспомнила гневные обвинения ткача. Как гнусно поступил Николаи, когда отнял у него мастерскую и дом и даже угрожал переломать ноги. Почему он так поступил? Что побудило его, презрев милосердие, бросить целую семью на произвол судьбы? Эти неприятные мысли потянули за собой другие. Лежа на новом, пахнущем свежей соломой матрасе, положив голову на подушку, набитую свежим пухом, она думала о том, сколько еще на свете людей, с которыми Николаи обошелся так же плохо. Кто нападет на нее следующим? Кто может появиться на ее пороге посреди ночи и потребовать возмездия?
Дождь принес прохладу, и Алейдис дрожала, несмотря на теплое одеяло, которое она натянула до кончика носа. Она чувствовала себя беспомощной и одинокой. Ужасно одинокой. Хуже того, в голову ей лезли воспоминания о том, как смутил ее Винценц ван Клеве, коснувшись на миг ее скулы. Как только она представляла себе эту картину, ее охватывало жгучее чувство стыда. Николаи не было в живых всего неделю, а она будто уже предала его. Но она вовсе не хотела этого делать. Когда он был жив, она и подумать не могла о том, что другой мужчина может вызвать в ней нечто большее, чем мимолетную мысль. И уж точно ее бы не заинтересовал такой мужчина, как полномочный судья, который явно был не слишком высокого мнения о ней и тем более дал понять, что намеренно пользуется своим превосходством. И ради чего? Чтобы защитить ее? Или чтобы обуздать?
Разумеется, она понимала, насколько наивным кажется ему ее план занять место Николаи в мире менял. А его фривольные намеки вгоняли ее в краску. Неужели он действительно думал, что она пытается подыграть ему, специально дразнит или даже соблазняет его? Разве он еще не понял, что она на это совсем не способна? Во-первых, у нее нет ни изящества, ни умений, которых требуют игры подобного рода. Во-вторых, Винценц ван Клеве был бы последним мужчиной во всем мире, с кем она решилась бы заигрывать. Он был одним из тех мужчин, которых женщины обходят стороной, так как они не вызывают ничего, кроме раздражения, слез и горести. Как ван Клеве совершенно справедливо заметил, он пугал ее.
Так почему он просто не прекратит это? Почему он настаивает, что это она его спровоцировала. Ведь все же как раз наоборот! Его вызывающая манера поведения, его двусмысленные речи, которыми он умело обволакивал и сбивал с толку, казалось, запускали в ней какой-то внутренний механизм, толкавший ее к необдуманным словам и поступкам. Ее ответные выпады были настолько спонтанными, что она не могла с ними совладать. Это было опасно, ибо кто знает, что творится в голове у этого человека и что он способен предпринять, когда почувствует, что ему брошен вызов.
Ей следует научиться вести себя с ним осмотрительно и не поддаваться эмоциям. С ним и, разумеется, со всеми другими мужчинами, с которыми ей придется иметь дело в будущем. Ведь именно мужчины устанавливают правила в мире, в который она вступила, открыв двери меняльной конторы. И если она хочет удержать позиции, ей придется иметь дело с представителями противоположного пола, научиться оценивать их сильные и слабые стороны и — она также знала об этом — использовать их.
Но одно она знала совершенно точно: она никогда не возьмется за те дела, которые Николаи проворачивал в своем подпольном королевстве. Эту часть его жизни она должна похоронить вместе с ним. Для подобного ремесла она не обладала ни достаточной силой, ни беспринципностью и вообще не понимала, какая ей от всего этого польза. Хиннрих Лейневебер уже достаточно ясно дал ей понять, сколько зла и страданий способен был причинить Николаи посторонним людям. Она понимала, что, скорее всего, никогда неузнает, насколько далеко простирались его, влияние и власть, и могла лишь надеяться, что те, кто пострадал от рук ее мужа, не захотят свести счеты и с ней. Она поймала себя на мысли что по ее щекам текут слезы и подушка уже намокла от них. Слезы, которых, как ей казалось, у нее больше не осталось.