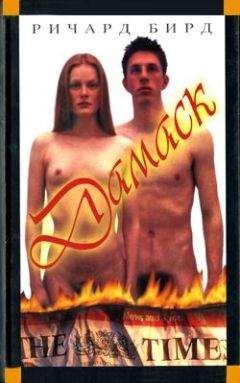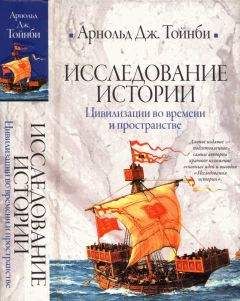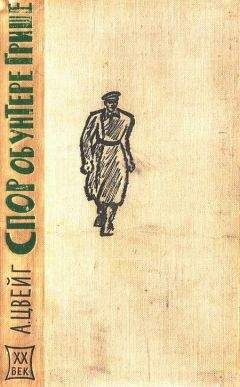Возвращение в Дамаск - Цвейг Арнольд
Стрельба у Дамасских ворот, толпы вооруженных феллахов врываются через них в квартал еврейских ремесленников. Туг и там они встречают сопротивление — стычки с применением кинжалов, дубинок, пистолетов, грабежи, а затем пожар, пожар в летнем Иерусалиме. В других кварталах перепуганные обитатели спешно баррикадируются, трезвонят телефоны: полиция, полиция! Но полиция не является. Она ни к чему не готова, не поверила множеству предупреждений, а теперь в тесные улочки Иерусалима проникнуть ох как непросто. Она занята на пожаре, вместе с огнеборцами. Цистерны отдают воду нехотя, небольшой водопровод римских времен тоже далеко не достает. А в Новом городе, за стеной, нападают на еврейских мужчин, брошенные ножи пронзают спины, гремят выстрелы, бегут и падают прохожие. Из ближних деревень, знаменитых прежним разбоем, из Колонии и Липты, подтягиваются к городу орды обычно мирных феллахов, теперь готовых убивать, хватать добычу. Окрестности Иерусалима гудят, рокочут, кипят. Долины за Тальпиот грозят новому поселению опасностью; оно расположено слишком уединенно. Настал день — пришельцы будут сброшены в море; земля встряхнется, и полетят они в воду, как насекомые со шкуры собаки.
Да, однако все не так-то просто. Неожиданно всюду оказываются вооруженные засады, меткие пули ищут цель среди взбирающихся по склону. Откуда взялось оружие, остается тайной; но оружие очень даже настоящее, а засаду на них устроили хладнокровные молодые люди, парни и девушки. С высоты некрополя гремят быстрые, ритмичные выстрелы. Пулемет? Колония и Липта — нынче вам не везет. В пещерных гробницах, за высокими каменными стелами, наверно, засел бдительный отряд молодежи; пять дней и пять ночей они находятся там неотлучно. Их всего семеро, но этого вполне достаточно. Колония и Липта наверх не проходят, еврейский пригород Меа-Шеарим, Бухарский квартал остаются целы. Обитатели покидают Тальпиот, и мародеры грабят дома, пока из Египта не прибывают войска, английские томми, которым совсем не по душе вести здесь незначительную войну. Расквартировались они в домах на окраине, но обходятся с ними отнюдь не бережно — после их ухода понадобится серьезный ремонт.
Иерусалим дрожит в неимоверном возбуждении, но христианские общины, иностранные консульства мало что замечают. Многие из них живут спиной к еврейскому поселенчеству; да и почему Святая земля должна перестать быть музеем религий? Возможно, после этой конечно же прискорбной сумятицы все они опять останутся в своем кругу, самым прогрессивным элементом в стране опять будут считаться немецкие храмовники, бравые швабы, и можно будет уже не опасаться конкуренции приезжих восточных евреев. Польский консул думает иначе. Посещая жертвы в больнице «Хадасса», он выражает им сочувствие от имени всего консульского корпуса…
Иные же чиновники на просторах Палестины предпочитают выразить солидарность с арабами. Некий канадец, журналист и юдофил, бежит в ближайший полицейский участок и требует вмешательства. «Через две минуты после их смерти», — ответил ему хладнокровный начальник. Да, но ждать так долго нельзя, считают евреи, эти странные святые, и берутся за дело сами. Многим мародерам приходится плохо — вне всякого сомнения. У евреев расправа коротка; среди них есть весьма опытные стрелки, старые легионеры, солдаты мировой войны. Все идет не так, как рассчитывал сброд, даже совсем, совсем по-другому; при подведении итогов в конце этой небольшой заварухи окажется, что, хотя с жизнью расстались сто тридцать три еврея, погибло и минимум сто шестнадцать арабов; и оба народа насчитывают вдвое больше раненых. Разница лишь вот в чем: из евреев убиты большей частью беззащитные люди старшего возраста, в том числе женщины; арабы же почти все без исключения погибли в бою, столкнувшись с превосходящим противником. Правительство запрещает выпуск газет. Что происходит в стране, никому не известно.
А в стране соседствуют ужас и спокойствие. В Хевроне, в этом подстрекательском гнезде, происходит сущая бойня. Троих-четверых рабби, в том числе престарелого рабби Исраэля Лёбельмана и учеников его ешивы, никто не спасет. Им бы следовало больше играть в футбол и меньше изучать Гемару, не пренебрегать и земным оружием помимо духовного. Ведь перед Богом и людьми защита жизни разрешена, в таком случае позволительно нарушить все законы шабата. Но пока они решают, есть ли угроза для жизни, их успевают убить, а позднее комиссии будут спорить, наличествуют ли у восемнадцати трупов увечья, в нанесении которых враги обвиняли опьяненных кровью арабов, в том числе и на войне. Хеврон — место почтенное, евреи живут среди соседей без защиты. В Хевроне, в Яффе — да, яффские мужчины тоже нападают на своих сограждан, и там тоже пожары, убийства, мародерство. Но ближний город Тель-Авив тотчас присылает подмогу. Множество молодых евреев устремляется на помощь, еврейская полиция: стоп, господа хорошие! Город Яффа поплатится за это нападение, евреи покинут его, уедут в Тель-Авив, Яффа придет в упадок, Тель-Авив поднимется. Пожары в Яффе, пожары в Цфате. Там коммерсанты, здесь старые учителя ешивы переживают скверные дни. Они баррикадируются, в Цфате много погибших. Люди, недавние соседи, убивают друг друга, слишком много всего написано, напечатано и принято на веру: зачем иначе неграмотные учатся искусству чтения…
Броневики спасают целые городские кварталы, врачи налагают целебные повязки — только от огня мало что помогает, от шумного, очищающего. В Иерусалиме выгорает некая улица. Остаются лишь каменные стены, тёсовый камень из каменоломен Соломона, почерневший от пожара, никуда не годный. Жители мало что спасли. Некогда состоятельные, теперь они стали нищими; кто возместит им ущерб, раз они живы? Из одной квартиры не уберегли ничего — ни стола, ни ковра. Жилище человека, которого звали де Вриндт, огонь уничтожает целиком и полностью. Тщетно брат в Роттердаме будет ждать наследства, памятных вещиц, сувениров. Полиция в свое время опечатала квартиру; а теперь не до обязанностей перед наследниками, теперь хватает иных забот. И огонь с грохотом врывается в наконец-то треснувшие двери. Длинный язык пламени мчится по коридору, прохладный вечерний ветер помогает опустошительной стихии. Огонь набрасывается на книги; потрескивая, шумно взбухая, срывает занавески с фолиантов Талмуда, с раввинских шедевров, молитвенников, комментариев и светских европейских сочинений. Цветные ковры на стенах в мгновение ока чернеют, оборачиваются вихрем пепельных хлопьев и дыма. Деревянные стеллажи безропотно становятся очагами глубинного пожара, сами книги горят медленно, плотно спрессованные страницы занимаются с трудом, но если уж займутся — не потушишь. Заодно пламя дочиста вылизывает письменный стол, оконные стекла лопаются от жара, и опаленные листы бумаги летят-кружатся в дыму, затянувшем квартал. Нет более четверостиший, полных человеческого упрямства, нет записок о жизненных муках и противоречиях, нет календарных записей: «В половине шестого С.». В эту квартиру не направляют струи брандспойтов, ведь нет никого, кто бы этого потребовал. Потому-то огню хватает времени уничтожить все; кажется, в этом и состоит его зловещая задача. Не отпугнут его ни молитвенное покрывало, талит в синем, расшитом золотом бархатном чехле, ни ремешки с черными кожаными коробочками, называемыми «тфилин» и содержащими пергаментные свитки со стихами Торы, священные изречения, хранившиеся в шкафу, в правом нижнем ящике, в шелковом мешочке. Сам письменный стол, за которым разыгрывалась бурная жизнь человека по имени Ицхак, теперь действительно становится алтарем всесожжения. И однажды, когда рабочие с кирками будут сносить полностью выгоревшие руины домов, кто-нибудь из них, возможно, найдет на полусгоревшей доске плоский кусочек серебра, растекшийся как расплавленный свинец, на котором дети гадают в сочельник; и если работяге повезет, он сунет этот плоский слиток под рубашку, а вечером продаст местным торговцам, на вес. А затем монеты, прошедшие через руки де Вриндта, превратятся под умелыми пальцами йеменцев в филигрань, в тонкое плетение, в искусную оправу перстней, треугольных как епископские митры, с отверстиями для бирюзы, в длинные цепочки, в тяжелые браслеты с выпуклым узором, сделанным вручную, — вот и все, что останется от материи человеческой жизни. Мертвые мертвы, и память о них исчезает…