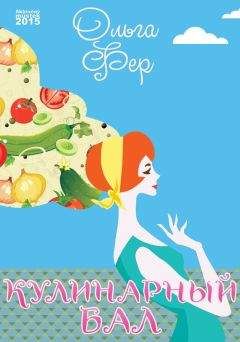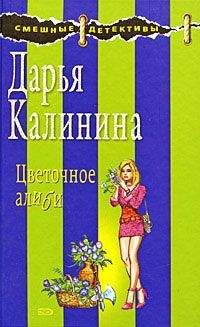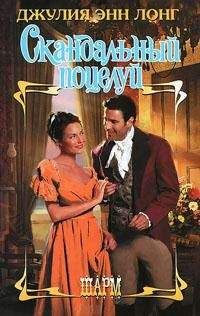Валерий Кормилицын - Разомкнутый круг
– Будьте здоровы, тетенька! – тонким подхалимским голоском пожелал ей здравия Нарышкин.
Максим глупо хихикнул.
– Какая я тебе тетенька! – по-медвежьи заревела купчиха.
«Похоже, не поверила, что я князь! – вздохнул Оболенский. – Папà велел бы выпороть ее на конюшне! – подумал он. – Ежели, конечно, нашел бы исполнителей».
– Коль не ко двору, то мы пошли, – радостно заявил Максим, поворачиваясь к двери.
– Стоять! – рявкнула бабища. – Никто тебя не отпускал. Марфа! Покажи комнаты господам, – распорядилась она, презрительно сморщив нос при слове «господа».
«Нашла себе жертвы, теперь не отделаешься!» – расстроился Рубанов.
– Того, кто князем назвался, в большой посели, а этих двоих – в маленькой. Да приберись в комнатах, лентяйка. Волосья-то повыдергиваю…
– Уф! – юнкера облегченно вздохнули, покинув зал и слыша еще бурчание: – Растопался тут сапогами, пылищи-то поднял – страсть! – Снова раздался мощный чих.
– Немцы наши супротив нее слабаки! – сделал вывод Максим, проходя через просторную грязную комнату с плесенью на стенах, с запахом сырости и почему-то сосновой смолки.
В углу под образами чуть теплилась лампадка, которая мгновенно загасла при хлопанье дверью. Из-за плотно закрытого окна в комнате было душно.
– Тут этот господин расположится, – кивнула на Оболенского Марфа. – А вы пройдемте в соседнюю. – Открыла дверь и провела юнкеров в крохотную комнатку с растворенным окном.
Здесь дышалось легче и было прохладнее.
– А вот эта дверь и лестница ведут на второй этаж, – объясняла служанка, – там хозяйкины дочери живут. Создания тихие и скромные. Не дай вам бог даже на нижнюю ступеньку поставить окаянную свою ножищу, – уже уходя, посоветовала она с угрозой в голосе.
Максим выглянул в маленькое оконце и увидел весь в зелени огород и несколько фруктовых деревьев. Нарышкин занял заголосивший под ним диван, оставив Максиму узкую койку с ржавыми железными каретками. На пыльном полу отпечатались следы сапог – сор, очевидно, не мели неделями. Через некоторое время к ним присоединился и князь. Недовольно побродив по комнате, он тоже выглянул в окно, затем потер рукой по тесовому небольшому столику и уставился на пыльный палец, возопив:
– Хотя бы чаю нам дадут откушать в этой берлоге?..
Но глас вопиющего не был услышан…
После захода солнца смурная служанка принесла свежее белье и застелила постели. К столу их так никто и не позвал…
– Деньги-то у меня есть! Может, в Стрельне чего купим или в трактире поужинаем? – предложил Оболенский, но ответа не услышал. – А то что-то лень к этой корове идти чаю просить, – докончил он.
– Только ли из-за лени не желаете высочайшей аудиенции, князь? – подал голос со своей кровати Максим.
– Молчите, юнкер… Больше ни слова, а то вызову на дуэль! – покинул Оболенский их общество.
Спать легли натощак, но, к удивлению Рубанова, спалось на новом месте хорошо. Воздух в комнате удивительно посвежел и очистился, а трели соловьев привели в прекрасное настроение.
И только сыгравший утреннюю побудку[7] эскадронный трубач тут же все изгадил…
Быстро одевшись и поплескавшись у рукомойника, друзья побежали на место сбора.
– Воздух здесь чище, чем в Петербурге, – взнуздывая жеребца, делился своими мыслями Максим, пытаясь поднять настроение себе и друзьям.
Однако эскадронного трубача весьма удачно сменил поручик Вебер, тот сумел изобильно наплевать в чистые юнкерские души, придравшись к нечищенным сапогам.
– Вы еще не офицеры – денщиков иметь! – орал он. – Так что сами сапоги должны чистить…
И пока проводил эскадронные учения по строевой езде, без конца придирался к голодным юнкерам.
После занятий, купив курицу, друзья помчались домой в предвкушении чудесного обеда, но хозяйки не оказалось.
– В лавке! – объяснила прислуга, недовольно поджимая губы. – А без ее разрешения готовить не стану. – Повернулась и пошла в другую комнату.
– Стервы! Одни стервы здесь живут! – бесился Оболенский. – Были бы мужеского пола – на куски изрубил бы! – лупил куриной тушкой по столу.
Видя такое дело, дядьки накормили их пшенной кашей.
– А вечером в наряд идти! Какая служба на голодный желудок?..
«Лихо Вебер им с купчихой, ни к ночи будь помянута, напакостил…» – подумал Шалфеев.
На следующий день эскадронных занятий не предвиделось, и неуемный Вебер велел дядькам заниматься с юнкерами выездкой индивидуально.
– Котел с собой возьмите, – попросил Оболенский дядек, – там и пообедаем.
Обучаться решили в нескольких верстах от Стрельни. По пути купили водки, фунт лука, три фунта мяса, картошки и хлеба. Место нашли приятное – в лесочке, на берегу пруда. Пока дядьки готовили на костре обед, юнкера, чтоб отвлечься и не сойти с ума, выкупались и млели на солнышке.
– А с другой стороны, вроде и неплохо… – потягивался сильным телом Оболенский.
В хозяйский дом не тянуло, еды хватало, поэтому засиделись у костра до глубокой ночи. Над прудом поднимался парок, деревья отражались в зеркале воды. Иногда слышался слабый всплеск. Уставший за день пруд, казалось, отдыхал подобно юнкерам и дышал полной грудью. Где-то неподалеку защелкал и засвистел соловей. Стало прохладно. Конногвардейцы придвинулись поближе к огню.
– Егор! – по имени обратился к своему дядьке умиротворенный князь. – А налей-ка всем водки…
Отвлекшийся от раздумий Рубанов, уразумев, что не услышит ничего оригинального, вновь стал любоваться огнем… Но Егор, привалившись спиной к дереву и уронив голову на грудь, мирно спал.
– Давайте я, ваше сиятельство, – вызвался Шалфеев.
Стаканчиков было только три. Поэтому сначала выпили юнкера, а затем их дядьки. Ради такого случая соизволил проснуться даже Кузьмин. Мягкий ветерок прошелестел в нежной зелени молодой березки. В отблесках костра мелькали мошкара и большая белая бабочка.
Юнкера замолчали и задумались. Максим, шевеля веточкой угли, ясно, с нежной грустью вспомнил Рубановку, свой дом и мать. «Надо написать ей», – подумал он, разглядывая языки пламени.
Неясный лесной аромат бередил душу. Другие, казалось, чувствовали то же самое. Сверчок, словно опытный музыкант, выводил свою вечную мелодию, которая успокаивала и усыпляла. Мирно фыркали лошади и изредка трясли головами, отгоняя ночную приставучую зудящую мелочь. Душа отдыхает и блаженствует в такие минуты…
Очнувшись, Максим потер глаза и радостно улыбнулся, ощутив себя в тихом и томном царстве ночи.
Природа дремала, наслаждаясь покоем и тишиной, иногда прерываемой сладкой соловьиной песней. Где-то рядом неуловимо витало счастье…
Решивший закурить Шалфеев нарушил тишину, доставая кисет.
– Степан! – обратился к нему Рубанов. – У них, – кивнул на юнкеров, – есть дома и вотчины, даже у меня хоть и небольшая, а все деревенька… Нам есть что терять!.. А за что воюешь ты, ежели не брать во внимание приказ и присягу?! За что ты сражался под Аустерлицем?..
Сощурившись от дыма, Шалфеев раскурил небольшую трубочку, задумался, выпустив густое облако, приведшее в трепет мошкару, и медленно обвел вокруг себя рукой.
– За все это, барин… Чтобы пел соловей и цвела черемуха! И чтобы хоть изредка можно было вот так посидеть у костра, – чуть помолчав, промолвил он.
Максим пожал плечами:
– Я думал – за Бога, Царя и Отечество!..
– Так и я говорю об этом… Молоды вы еще, господин юнкер! – ласково улыбнулся Шалфеев. – Потом поймете…
Домой пришли под утро. И то, спасибо дядькам, доехав верхами до купеческого дома, они взяли юнкерских коней под уздцы и повели в конюшню. На стук долго не открывали, хотя на втором этаже горел свет. Наконец, дверь распахнулась, и перед ними предстала купчиха в сером капоте со свечой в руке и ядом на языке.
– Не успели к честной вдове на квартиру въехать, познакомиться чин чином, а уже блудуете, да еще по ночам спать не даете вдове и ее бедным девочкам, – отступила она в сторону, пропуская молодежь.
– Не нравится, скажите Веберу, и мы себе другую квартиру подыщем, – нахально ответил Максим, бочком протискиваясь мимо купчихи.
Отведя чуть в сторону подсвечник, женщина всей массой приплющила его к стене.
– Утомил ты меня! Молод старшим-то грубить… Молоко еще на губах не обсохло. – Отступила на шаг от Рубанова, и он, лишенный какое-то время воздуха, чуть не рухнул на пол.
Оболенский, видя такие методы воспитания, поддержал друга:
– Он прав! Не кормите, даже чаем не напоили, кричите все время. Да, моя воля, давно на конюшне пороты были бы… – Забрав у нее свечу, повторил ее же воспитательный прием, придавив грудью купчиху к стене.
Она только коротко охнула и замолчала, придушенная мужским телом. И Максиму даже показалось, что по лицу ее растекалось неописуемое блаженство…
Уснули уже с восходом солнца. И как же мерзок был звук горна, сзывающий конногвардейцев на молитву и утреннюю поверку.