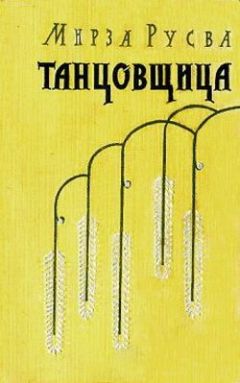Мирза Хади Русва - Танцовщица
– С голоду помираем! – шумели разбойники. – Подвернулся хороший случай, да и то атаман его упускает. Когда ж наконец мы поедим досыта?
Фазл Али отделился от своей шайки. Вместе с ним отошел какой-то смуглый человек. Он сказал:
– Хан-сахиб! Я тоже с тобой.
Внимательно вглядевшись в него, я узнала конюха Файза Али. Я подозвала его к себе и принялась расспрашивать. Потом тихонько сунула ему в руку золотой и те рупии, что получила от бегам.
Между тем Фазл Али обратился к Сарфиразу:
– Знай, брат, я на твоей стороне, но вот они…
– Их я сейчас уговорю, – подхватил Сарфираз. – Только уходите отсюда! Видите – женщины перепугались, госпожа в обмороке. Дайте ей прийти в себя. Мы сделаем так, что все будут довольны.
Разбойники отошли. Бегам все еще не пришла в сознание, челюсти ее были сведены судорогой. Я принесла пригоршню воды из пруда и брызнула ей в лицо. С большим трудом удалось мне привести ее в чувство.
– Возьмите себя в руки и сядьте, – сказала я. – Божьей милостью беда миновала! Успокойтесь!
Потом мне таким же путем удалось привести в чувство других женщин. Все сели на свои места. Когда женщины немного успокоились, я рассказала, как было дело. Бегам-сахиб очень обрадовалась и послала за Сарфиразом.
– Дайте им что-нибудь, госпожа, – сказал он. – Без этого не обойтись. Не будь здесь Умрао-джан, мы бы так дешево не отделались.
– Полно! Что я такого сделала? Все вышло случайно, – возразила я, и с тем большей горячностью, что с уст Сарфираза сорвались слова, каких здесь произносить не следовало. Открывать, что я знакома с разбойниками, мне никак не хотелось.
Короче говоря, бегам потребовала свою шкатулку, достала пятьсот рупий наличными и на такую же сумму золотых и серебряных украшений и велела отдать все это разбойникам. Они ушли, и все постепенно успокоились. Но я никогда не забуду последних слов бегам:
– Ну вот, Умрао-джан! Теперь увидела, как хорошо жить в саду?
– Госпожа, вы были правы, – должна была я признать.
Было уже три часа ночи. Все поднялись и пошли в дом. Встала и я. Мне постлали постель на веранде, но как могла я заснуть? Проворочалась до утра. Под утро все окончательно угомонились, я тоже сомкнула глаза. Однако выспаться не удалось – приехал мой слуга и попросил меня разбудить. Протирая глаза, я вышла к нему.
– У вас все благополучно? – спросил он. – Мы вас прождали всю ночь.
– Я не могла приехать. Ведь я отпустила своего возницу.
– Так поезжайте сейчас. К вам приехали из Лакхнау.
Я стала соображать, кто бы это мог быть. Не иначе как бува Хусейни и Гаухар Мирза. Но как они узнали, где я?
– Хорошо, – сказала я. – Сейчас поеду. Повозка здесь?
– Здесь, – ответил слуга.
Когда я уже уезжала, проснулось еще несколько женщин. Они стали меня удерживать.
– Попрощаетесь с бегам-сахиб, тогда поедете, – говорили они.
– Нет, – отказалась я. – У меня есть дело. Бегам-сахиб поднимется, вероятно, еще не скоро. Лучше я снова приеду когда-нибудь в другой раз.
16
Вернулась домой, гляжу – у меня сидят бува Хусейни и миян Гаухар Мирза. Бува Хусейни бросилась мне на шею и расплакалась. Я тоже прослезилась.
– Боже мой, дочка! – причитала она. – Какое у тебя жестокое сердце! Неужели ты никого из нас не любишь?
Мне было стыдно самой себя. Что тут было ответить? Пришлось сделать вид, что и я плачу.
После обычных расспросов бува Хусейни сказала, что хочет в тот же день отправиться назад в Лакхнау. Как я ни просила ее подождать несколько дней, она и слышать не хотела. Так спешила она потому, что заболел маулви-сахиб. Вот бува Хусейни и боялась задержаться хоть на минуту. Ведь только любовь ко мне заставила ее приехать сюда.
В тот же день я купила в Канпуре все, что мне было нужно, рассчиталась за квартиру, расплатилась со слугами. Потом наняла большую повозку, куда погрузили мои вещи, но лишь самые необходимые; остальное я раздала слугам. На следующий день мы уже были в Лакхнау. Опять меня встретили те же люди, тот же дом, та же комната, та же обстановка…
В пустыне безумия тешилось сердце шальное,
Но стены темницы сомкнулись опять надо мною.
17
Нет, такого волнения я не знала доныне!
Это пламя, раздутое ураганом пустыни
При дворе Малика-Кашвар[85] было принято читать марсии, и этот обычай соблюдали вплоть до крушения султаната.[86] В то время я, как исполнительница марсий, состояла на службе у принца Мирзы Сикандара Хашмата, прозванного Джарнайл-сахиб,[87] Но ее величество и Джарнайл-сахиб отбыли в Калькутту, и моя связь с двором прекратилась.
Когда мятежное войско[88] возвело на престол Мирзу Бирджиса Кадра,[89] меня, по старой памяти, а может быть, просто потому, что мое имя часто поминали в шахском дворце, призвали исполнить поздравление. В городе царило полное беззаконие: сегодня у человека разграбили дом, завтра его взяли под стражу, послезавтра расстреляли. Прямо светопреставление! Повсюду бросались в глаза следы разгрома.
Среди военных командиров был некто Сайид Кутбуддин. Его назначили в дворцовую охрану. Он был ко мне весьма благосклонен; поэтому мне часто приходилось бывать во дворце. Время от времени меня даже приглашали выступить.
Кратковременное правление Бирджиса Кадра ознаменовалось чрезвычайно пышным празднованием его одиннадцатилетия. На этом празднестве кашмирские певцы пели газель, начинавшуюся так:
Ты луну затмеваешь, о Бирджис Кадр,
Ты рубином сверкаешь, о Бирджис Кадр.
Я тоже сочинила газель к этому торжественному дню. Она начиналась словами:
Невинность твоя привлечет любовь народа к тебе,
Беду от тебя отведет любовь народа к тебе!
– Умрао-джан! Это замечательное вступление! – воскликнул я. – Если вы помните еще что-нибудь из этой газели, прочтите, пожалуйста.
– В ней было одиннадцать двустиший, но, клянусь вам, я больше не помню ни одного. То было такое смутное время, – я день и ночь жила в страхе за свою жизнь. Газель я записала на каком-то клочке. До того дня, как бегам-сахиб, матушка Бирджиса Кадра, покинула Кайсарбаг,[90] этот клочок лежал у меня в шкатулке с бетелем. А когда пришлось бежать из Лакхнау, мне в этом переполохе не то, что шкатулку, даже туфли и покрывало захватить было некогда.
– Скажите, вы уходили из Кайсарбага вместе с бегам? – спросил я Умрао-джан.
– Да, я ехала с ней до Баунди. До смерти не забуду, как вели себя в пути вероломные и трусливые командиры и как они льстили в глаза бегам, а в своем кругу роптали. Один скажет: «Вот, господа, под ее властью нам приходится шагать пешком!» Другой подхватит: «Ладно! Хоть бы кормили-то хорошо». Третий плачется, что нет опиума. Четвертому не пережить, что хукку ему не подают вовремя. Когда английская армия атаковала Баунди из Бахрайча, в сражении погиб и Сайид Кутбуддин. Бегам-сахиб направилась в Непал, а я решила спасать свою жизнь, подавшись в Файзабад.
– Говорят, весело было в Баунди в течение нескольких дней, – заметил я.
– Вы про это только слышали, а я все видела своими глазами. Там собрались все беженцы из Лакхнау. На базаре в Баунди толпилось так же много народа, как у нас в Лакхнау, на Чауке.
– Ну, об этом распространяться не стоит, – сказал я. – Расскажите лучше, что сталось с теми ценностями, которые вы получили от мияна Файзу.
– Ах! Лучше не спрашивайте! – сказала Умрао-джан, тяжело вздохнув.
– Все пропало во время беспорядков?
– Если бы во время беспорядков, было бы не так жалко.
– Так что же с ними стряслось?
– Придется немного вернуться назад… Когда я решилась бежать ночью с Файзу, я уложила все драгоценности и золотые монеты в корзинку, заперла ее на замок и обшила тряпкой.
Позади дома Ханум жил некто Мир-сахиб. Взобравшись на ограду нашей имамбары, можно было увидеть его дом – он стоял как раз напротив. Бывало, я, приставив кровать к ограде, залезала на нее и разговаривала с сестрой Мира-сахиба. Ей я и спустила свою корзинку, умоляя спрятать ее как можно лучше. Когда я приехала в Лакхнау из Файзабада, она вернула мне корзинку в полной сохранности, даже обшивка не была повреждена. Во время восстания были разграблены чуть не все дома в стране,[91] Если бы сестра Мира-сахиба, сказала, что корзинку украли, мне нечего было бы возразить. Но что за женщина! Она отдала мне все до нитки. На таких людях и держится мир; если бы не они, давно бы настал конец света.
– Так. А много ли было добра в вашей корзинке? – спросил я.
– Тысяч на десять – пятнадцать.
– И что же с ним случилось?
– Что случилось? Как пришло оно, так и ушло, это добро.
– А люди говорят, будто у вас во время восстания ничего не пропало – все ваше богатство осталось при вас.