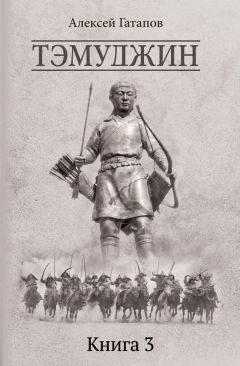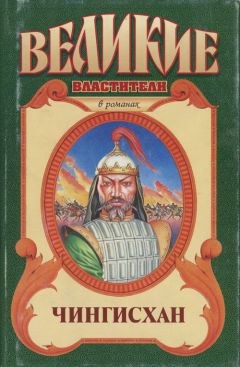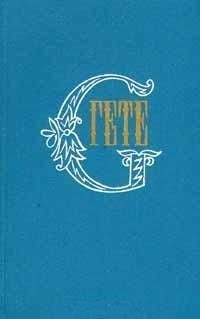Алексей Гатапов - Тэмуджин. Книга 2
– Хозяин наш на нынешней облаве хочет быть тобши[14]…
– Он и на прошлой охоте был тобши, а толку не было, добычи большой что-то не оказалось, – усмехнулся Тэгшэ, давний тайчиутский пленник из северного племени хори. – Я сам тогда был там, таскал звериные туши. Согнали нас туда около пятисот человек из разных куреней, думали, что будет добыча, а работы почти никакой не оказалось, крупных зверей было немного, в основном косули да кабарга…
– Сердится страшно, с пеной у рта обвиняет те рода, что в прошлом году не прислали людей, – напуганно расширяя глаза, продолжала Хулгана. – Мол, пренебрегли племенной охотой, потому и боги не дали добычи…
– Он найдет, кого обвинить, – снова усмехнулся Тэгшэ и обернулся к меркиту Халзану, нашивавшему, сидя у правой стены, заплатку на порванные гутулы. – Помнишь, на весеннем тайлгане он хотел обвинить шамана за то, что не явился дух западного хагана, мол, плохо призывал…
– Да шамана того непросто оказалось обвинить, – охотно отозвался тот, перекусив короткую нить сухожилия. – Он ответил, что в дело вмешался восточный хаган и требует душу самого Таргудая в обмен на то, что западный хаган явится к людям. Таргудай тогда сразу остыл, даже лицо у него побледнело…
Веселый смешок прокатился по юрте и смолк.
– Видно, на этот раз он не на шутку обеспокоился за свою охоту, – подал голос пожилой найман Мэрдэг, сидевший на хойморе. – Это он за прошлый год хочет взять свое… Обычно не к добру бывает, когда нойон так сильно загорается из-за добычи, народу будет хлопотно…
– Да ему не сама добыча нужна, – рассмеялся Халзан, оглядывая лица других. – Вы дальше смотрите: все это к тому, что он ханом хочет стать. В прошлом году он был тобши и на этот раз не хочет никого вперед себя пускать…
– А ему и ханская кошма – добыча.
– Ну, если так посмотреть, то ему все добыча…
Все помолчали, будто выжидая, кто еще скажет.
– Нукеры говорили, что на этот раз он хочет, чтобы ближние рода выставили побольше людей, если дальние опять не послушаются, – снова заговорил Тэгшэ. – Будто бы требует, чтобы было не меньше десяти тысяч всадников…
– Ну, если у него будет удача, то и нам что-нибудь перепадет, – беспечно улыбнулся семнадцатилетний Хэрэмчи, сидевший со своей суженой у восточной стены и шептавшийся с ней о чем-то. – Может быть, и мы хоть по одному разу набьем животы зверининой…
– Ладно, не гадайте, что будет завтра, глотайте то, что есть сегодня…
– Сегодняшняя требуха вкуснее завтрашнего жира…
– И вправду, наше дело – лишь этот день прожить, раз не владеем своей судьбой…
– Садитесь, будем делить сегодняшнюю добычу.
Рабы и рабыни торопливо рассаживались вокруг очага, каждый на свое место.
Тэмуджин с Сулэ присели с нижнего края и, дождавшись старших, взяли по полуобъеденному ребру конины.
«Все они знают и понимают не хуже других, – думал Тэмуджин, глядя на рабов, обдумывая их разговор. – А люди привыкли смотреть на них как на малоумных, годящихся лишь для черной работы».
В курене с каждым днем все больше чувствовалось приближение больших, значительных событий. Как всегда к этому времени люди, особенно молодые, примеряли на себе новые одежды. Харачу, те, кто победнее, нашивали на старые дэгэлы новые заплаты, обшивали свежей замшей полы и рукава, накладывали подошвы на гутулы. В морозном воздухе вместе с дымом от очагов то у одного, то у другого айла разносился кислый запах свежего вина – люди готовились угощать богов перед охотой и к праздничным пирам после охоты.
Молодые готовили коней: после охоты должны были быть состязания между родами. Каждое утро вдали за куренем большими толпами собирались конные и делали длинные пробеги по глубокому снегу. Белый вихрь вздымался и долго кружился вслед за стремительно несущимися рысаками и иноходцами, оттуда, приглушенные расстоянием, доносились звонкие крики, разъяренное ржание.
На другой стороне, на высоком берегу, где снег был сдут ветрами, и издали белое отчетливо перемежалось с желтизной обнажившейся пожухлой травы, молодые мужчины пробовали новые луки и стрелы. То одна за другой, то вразнобой пронзительно и тонко свистели йори. Всадники оттуда то и дело толпами или в одиночку рысили в курень, к юртам стрелочников и лучников, чтобы подправить снаряжение, красовались по-новому украшенными саадаками и хоромго.
IV
В середине месяца гуро[15], когда луна проглядывалась ровно наполовину, после захода солнца улигершины[16] начали первые песни о Гэсэре[17].
В юртах нойонов и богатых харачу собрался народ. Таргудай пригласил к себе лучшего улигершина племени – оронарского Тушэмэла. Тот собирался на этот раз петь в своем роду, но Таргудай заранее пригласил его к себе и за щедрыми угощениями уговорил остаться, обещав самую высокую награду для улигершинов – белого пятилетнего иноходца под новым седлом.
С этого дня, как только начинало смеркаться, в курене тайчиутов разом затихала жизнь, и между юртами становилось безлюдно. Лишь изредка, запыхавшись, пробегали запоздавшие, да слуги то и дело носили из юрты в юрту дымящиеся паром блюда. Все соплеменники, до самых бедных харачу, забивались в юрты к тем, у кого на хойморах восседали самые почетные в эту пору гости – улигершины. И даже рабы, подкравшись снаружи, ушами прилипали к стенам, жадно ловя обрывки древних песен.
Тэмуджин решил, что его, правнука хана Хабула, и в канге никто не смеет отлучать от слушания Гэсэра вместе с вождями. «Если буду вместе с харачу, то этим я сам признаю свое отлучение от ханского рода, – подумал он. – Нет уж, я должен быть с нойонами и буду с ними… Пусть Таргудай даже выгонит меня из своей юрты, но зайдя туда вместе со всеми, я всем покажу, что я нойон, как и они».
И когда в юрту Таргудая гурьбой стали заходить ближние тайчиутские нойоны и нукеры со своими женами и детьми, он, набравшись смелости, последовал за ними. В полусумраке, пока гости топтались перед очагом и рассаживались у стен, он нашел себе место у двери, за спинами нукеров.
Все, наконец, расселись; огонь очага вновь осветил всю юрту до блестящих решетчатых стен. На хойморе, рядом с хозяином, по правую его руку сидел еще не старый мужчина в простом, из ягнячьей шкуры, халате, с длинной, до живота, бородой, едва тронутой бледной сединой. В руках он наготове держал длинный хур с искусно вырезанной на верхнем конце безрогой изюбриной мордой, тихо трогал волосяные струны, пробуя звук.
По левую руку Таргудая сидела его жена – дородная женщина с большой черной родинкой на носу, расставляла перед собой на столике чашки для архи. Ей помогала младшая дочь, некрасивая девочка лет двенадцати, одинаково похожая и на отца и на мать.
Таргудай, приосанившись, с благодушным видом оглядывал гостей; у западной стены двумя рядами расселись старейшины и нойоны с сыновьями; ниже, ближе к двери, беспорядочной кучей теснились нукеры. Женскую сторону заняли разнаряженные как в праздник жены старейшин и нойонов с дочерьми и внучками.
Неторопливо проводя хозяйским взором по лицам нукеров, Таргудай вдруг столкнулся взглядом с Тэмуджином. От неожиданности глаза его осоловели, наливаясь тяжелым негодованием, он какое-то время смотрел на него, раздумывая, как быть.
Тэмуджин, не опуская глаз и подавляя волнение в груди, ждал, когда он его выгонит, приготовившись с достоинством встать и выйти из юрты. Таргудай дернул головой, разом отворачивая от него раздраженный взгляд, повернулся к улигершину и обратился к нему нарочито беспечным голосом:
– Ну, уважаемый Тушэмэл-сэсэн, не время ли вам промочить горло перед важным делом, – он, не оглядываясь, протянул руку к жене, которая тут же бережно поставила ему на ладонь большую серебряную чашу с архи. – Если архи наш слишком крепкий, можете выпить половину, если слабоватый, выпейте до дна, ну, а если совсем никуда не годится, тогда скажите прямо, мы достанем арзу.
«Не решился из-за меня поднимать шум, – облегченно подумал Тэмуджин. – Да и нет у него никакого права выгонять, раз он сам привез меня сюда и держит… Я тоже нойон со своим знаменем, не ниже его…»
Тушэмэл обеими руками принял чашу и, протянув вперед, к очагу, отлил несколько капель на огонь. Затем он, безымянным пальцем макая в архи, побрызгал на восемь сторон света, начиная с востока, потом прямо вверх, на дымоход, и под внимательные взоры гостей выпил половину чаши. По юрте прошел одобрительный гул: архи оказалось хорошее. Он со стуком поставил тяжелую чашу на стол, через край выплеснув несколько капель и, взяв в правую руку хур, приложил смычок к струнам…
Полились тягучие, как темные струи пчелиного меда, густые, как дым сухой ая-ганги, звуки хура. Улигершин, прикрыв глаза и наморщив лоб, молчал, будто припоминал слова для пения. Наконец он с новыми громкими звуками хура разомкнул крепко сжатые уста, показав крупные белые зубы, и юрту огласил нечеловечески низкий, утробный голос, подобный реву старого самца-изюбра во время осеннего гона: