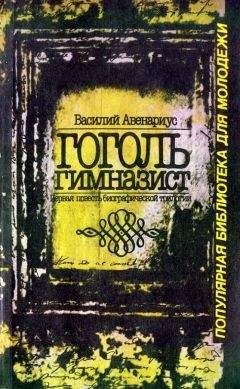Георг Эберс - Homo sum (Ведь я человек)
— К чему это?
— Да, матушка, к чему это? — повторил Поликарп тихим голосом и грустно покачал головой. — Теперь не спрашивай меня больше; а если бы ты все же не оставила меня в покое и если бы я попытался объяснить тебе, как сегодня, именно сегодня, я был вынужден вылепить изображение этой женщины, то ты, то все вы все-таки не поняли бы меня!
— И Боже сохрани меня, чтобы я когда-либо поняла это, — воскликнула Дорофея. — Не пожелай жены ближнего твоего! — заповедал Господь на этой горе. А ты! Я не могу понять тебя, полагаешь ты? Да кому же понимать тебя, если не родной матери? Вот этого я, конечно, не понимаю, как сын Петра и мой может до такой степени забывать пример и наставления своих родителей! Но цель, для которой ты сделал это изображение, по-моему, вовсе не трудно угадать! Потому что запрещенный плод висит слишком высоко для тебя, ты злоупотребил своим искусством и сделал себе, по своему вкусу, подобие ее! Сказать просто и прямо! Потому что глаз твой не видит более жены галла и вместе с тем не хочет лишиться прелестного вида ее красоты, ты сделал себе изображение ее из глины, чтобы ласкать его и поклоняться ему, как некогда евреи золотому тельцу и медному змию!
Поликарп выслушал молча и с болезненным возбуждением жестокие упреки матери. Так она никогда еще не говорила с ним, и слышать такие слова именно из тех уст, из которых он привык слышать только нежные речи, было ему невыразимо больно.
До сих пор она всегда была готова находить благовидные предлоги для оправдания всех его слабостей и мелких проступков; иногда даже неприятно поражало его то старание, с которым мать выставляла его преимущества и успехи перед чужими и перед своими. А теперь? Конечно, гнев ее был справедлив, потому что Сирона была женой другого, даже никогда и не замечала, что он к ней неравнодушен, и сделалась, как ведь все говорили, преступницей ради кого-то чужого.
Безрассудным и греховным делом должно было казаться людям, что именно он посвятил теперь ей свою энергию, свое искусство; но как непонятно было для матери, которая всегда старалась понимать его, то всесильное влечение, побудившее его к этой работе!
Он любил и почитал свою мать всей душой и, чувствуя, что ложным и низким толкованием его поступка она как бы оскорбляет саму себя, он перебил ее горячую речь, протянув к ней руки с умоляющим выражением.
— Нет, матушка, нет! — воскликнул он. — Бог мне судья, не то я имел в виду! Я вылепил эту голову, но не для того чтобы сохранить ее для себя и греховно забавляться ею, но для того чтобы избавиться от этого образа, который стоит перед моею душой день и ночь, и в городе, и в пустыне, блеск которого мешает мне мыслить, мешает мне молиться. Кому дано заглядывать в человеческую душу? Но разве лицо и весь образ Сироны не являются чудеснейшим созданием Всевышнего? И вот с первой же встречи, с того дня, как она поселилась у нас в доме, я поставил себе задачею воспроизвести это лицо так, чтобы все обаяние, которое произвел на меня вид галлиянки, чувствовалось и каждым, кто взглянул бы на мое произведение. Я должен был вернуться в столицу, и там это задуманное произведение стало слагаться в более определенные формы, и ежечасно мне приходили на ум то те, то другие изменения и поправки в положении головы, во взгляде глаз, в выражении рта. Но у меня все не хватало духа приняться за эту работу, Потому что непостижимо смелой казалась мне всякая попытка воссоздать в действительности, при помощи серой глины и бледного мрамора, мой светлый духовный образ в таком совершенстве, чтобы готовое произведение представляло для телесного глаза не менее того, что представлял тот образ, возникший в тайниках моей души, для духовного ока. Но в то же время я не ленился, получил первую награду за модели львов, и если Добрый Пастырь, благословляющий стадо, для гробницы правителя области удался, и мастера могли отозваться с похвалою о выражении беспредельной кротости во взоре Спасителя, то я знаю… нет, не перебивай меня, матушка, потому что чувства и помыслы мои были чисты, и я не богохульствую… то я знаю, что потому только и мог воодушевить мертвый камень любовью, что сам был преисполнен ею. Наконец, я уже не мог найти себе покоя и возвратился бы к вам, даже не дождавшись призыва отца. И вот я опять увидел ее и нашел ее еще прекраснее того образа, который царил в моей душе. И при этом я слышал ее голос и ее звонкий смех, а потом… потом… ты ведь знаешь, что я узнал вчера! Недостойная жена недостойного мужа, женщина Сирона погибла для меня, и я попытался изгнать и образ ее из моей души, уничтожить и изгладить его; но тщетно! И вот мало-помалу мною овладело дивное влечение к творчеству. Поспешно расставил я лампы, взялся за глину и с горечью и с наслаждением начал переносить на нее черту за чертою тот образ, который так глубоко запечатлелся в моем сердце, думая, что так и именно только так могу от него избавиться. Вот он, этот плод, который созрел в глубине души, но там, где он так долго покоился, я чувствую теперь ужасающую пустоту, и покажется мне удивительным, если теперь покровы, так долго и нежно облекавшие этот образ, иссохнут и распадутся. С этим произведением связана лучшая часть моей жизни!
— Довольно! — перебила Дорофея сына, который стоял перед нею в глубоком волнении и с дрожащими губами. — Сохрани Бог, чтобы эта личина еще погубила твое тело и душу. Как я не терплю у себя в доме ничего нечистого, так и ты не терпи его в твоем сердце! Дурное никогда не может быть красивым, и как бы мило ни глядело это лицо, оно мне противно, если я подумаю, что оно, может быть, еще милее улыбалось всякому бродяге и нищему! Если галл вернется с нею, то я откажу им от дома, а это изображение ее я уничтожу своими руками, если ты сам сейчас же не разобьешь его в куски!
При этих словах на глаза Дорофеи навернулись слезы.
Выслушивая сына, она почувствовала с гордостью и умилением выдающиеся свойства и благородство его души, и мысль, что такие редкие и великие сокровища могут пострадать или даже погибнуть из-за преступной женщины, вывела ее из себя и наполнила ее материнское доброе сердце неудержимым гневом.
В твердой решимости немедленно же привести в исполнение свою угрозу подошла она к модели; но Поликарп заградил ей путь, поднял умоляющим и удерживающим движением руки и сказал:
— Только не сейчас, не сегодня, матушка! Я прикрою ее и, право, не взгляну на нее до завтра; но раз, один раз только я хотел бы посмотреть на нее при свете солнца.
— Чтобы завтра снова проснулась в тебе старая глупость! — воскликнула Дорофея. — Пропусти меня или сам возьми молоток!
— Ты так приказываешь, и ты моя мать, — сокрушенно произнес Поликарп.
Медленно подошел он к ящику, в котором лежали его инструменты, и крупные слезы потекли по его щекам, когда он схватился за ручку самого тяжелого молотка.
Когда небо долгие дни сияет в летней синеве, и вдруг надвинутся грозовые тучи, и первая беззвучная страшная молния со своим грохочущим безвредным спутником, громом, испугает людей, то за нею вскоре последует и вторая молния, и третья.
Со времени вчерашней бурной ночи, нарушившей тишину трудолюбивой однообразной жизни в доме Петра, случилось еще кое-что, снова перетревожившее сенатора и его жену.
В других домах бегство какого-нибудь раба было не редкостью; в доме Петра не случалось ничего подобного в продолжение двадцати лет, но вчера оказалось, что убежала пастушка Мириам.
Это было досадно; но самую тяжкую заботу причинила сенатору безмолвная горесть Поликарпа.
Ему очень не понравилось, что юноша, обыкновенно отличавшийся такой живостью, беспрекословно и почти равнодушно отнесся к запрещению Агапита на ваяние львов.
Пасмурный взор и вялый, сокрушенный вид сына не выходили у Петра из головы до тех пор, пока он, наконец, лег спать. Было уже поздно, но он не мог заснуть, так же как и Дорофея. Пока мать думала о греховной любви сына и о ране в его молодом, горько обманутом сердце, отец сожалел об упущенной сыном возможности ради несбывшейся надежды выказать свое искусство на великой задаче, и вспоминал при этом о трудных и самых горестных днях собственной юности; он сам учился у одного из скульпторов в Александрии, восхищался произведениями язычников как высокими образцами и пытался подражать им. Учитель уже дозволил ему создать что-нибудь самостоятельное. Из числа данных задач он выбрал Ариадну, ожидающую возвращения Тезея, как символическое изображение души, чающей спасения. Как это произведение наполняло его душу, какое блаженство испытывал он в часы творчества!
Но вот явился в столицу его строгий отец, увидел неоконченную работу и не только не похвалил ее, но начал над нею издеваться, называл ее языческим кумиром и приказал Петру тотчас же вернуться вместе с ним домой и остаться у него, говоря, что сын его должен быть благочестивым христианином и притом хорошим каменотесом, а не каким-то полуязычником и делателем идолов.