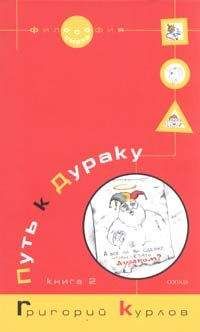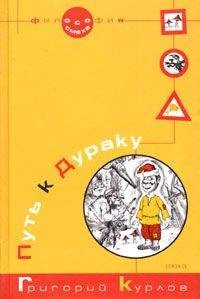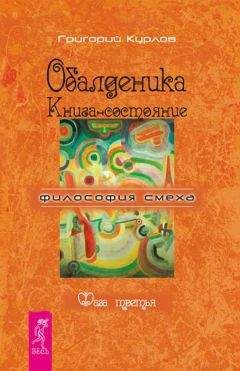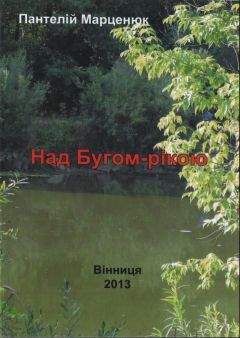Антон Хижняк - Сквозь столетие (книга 1)
— Отец говорил, что дней через десять.
— Меня будет сопровождать Никита, — с радостью сказала Маша.
— Хорошо, — погладил бороду отец Василий. — А я напишу письмо в Полтавскую консисторию. Там работает один мой однокашник. Мы с ним когда-то в Полтавской бурсе учились. Вот где нас, бурсаков, дубасили наши воспитатели. Как вспомню, то и сейчас кожа на спине начинает болеть. Поэтому, дочь моя, я и хочу, чтобы вы учили запорожанских малышей. Вы по-иному, по-новому, будете относиться к детям. Может быть, у меня натура такая мягкая, но я не могу на человека руку поднять, а тем более на ребенка. Сказано ведь в Священном писании: «Блаженны милостивые, яко те помилованы будут».
Разговор с этим приветливым человеком подбодрил Машу. Она уже представляла себя учительницей. Вот она входит в класс. А какой он, этот класс? Никита говорил, что отец Евгений учил его в грязной хате.
— А можно хоть одним глазом взглянуть на школу? — спросила робко.
— Нетерпеливая вы, дочь моя. Пойдемте. По дороге зайдем к отцу Евгению, у него ключ. Только не знаю, как он примет нас. Да… Понимаете… Он у нас человек со странностями… Стыдно сказать. Даже в церкви иногда у него такое слово с языка сорвется, что уши вянут… Хлещет водку квартами. Сегодня не пришел к церковной службе. Значит, с утра набрался. Беда с ним! Учеников бьет с пьяных глаз и по три дня в школу не заглядывает. Поэтому и нужно его освободить от школы.
Евгений Иванович был дома, резал табак. Клюя носом, он сидел во дворе возле верстака, который сам смастерил, и сек ножом толстые стебли, крошил их на мелкие кусочки, смешивал с измельченными раньше листьями. На широком столике возвышалась горка готового к употреблению табака.
— О! Ко мне уважаемые гости! Милости прошу! — поднялся он со скамьи. — И посадить тут негде. Пойдемте в хату.
— Да мы ненадолго, Евгений Иванович, — остановил его отец Василий. — Наша новая запорожанка хочет познакомиться со школой.
Евгений Иванович смутился.
— Да какая там школа! Отче Василий, это какой-то загон для овец. Тьфу! Стыд! — Он держал в руках толстый кисет с табаком. Маша с любопытством присматривалась к его рукам. Пальцы Евгения Ивановича были рыжими от табака. Но еще более рыжими были длинная широкая борода и густые усы. Они так продымились, что казалось, будто их покрасили в золотисто-желтый цвет. Голову венчала густая копна белых как снег волос.
— Какая уж есть, такую и покажем, — тихо вымолвил отец Василий.
— Если хотите, уважаемая Мария… Как вас величать?
— Анисимовна, — подсказал отец Василий.
— Покажем, Мария Анисимовна. — Дьякон взял с полки ключ и, пока шли до школы, без умолку говорил: — Это уже, наверное, лет двадцать, даже больше, учу грамоте. А какой грамоте? Ветхий завет. Новый завет. Молитвы… Псалмы учу петь. А арифметику нельзя. Приезжал протоиерей. Приказал: поменьше арифметики, мужикам она не нужна. И читать не нужно, жили без чтения и дальше проживут. Вот!
Они подошли к скособоченной хате. Дьякон долго возился с топорно сделанным замком, бурчал: «Ржавый».
Никак не мог справиться с ним, так как едва стоял на ногах. Маша взяла у него ключи и отомкнула дверь.
В сенях потянуло сыростью непроветриваемого помещения. В углу единственной комнаты Маша увидела грязный маленький стол, у стен две скамьи.
— Гм! Гм! Вот это и наша школа, — икая, проговорил Евгений Иванович и захохотал. — Аудитория! Гм! Гм! Сколько говорил церковному старосте, а он и ухом не ведет. Не господа, говорит, и на скамейках посидят.
— А где же им писать? Как пишут ученики? — спросила Маша.
— А они вовсе не пишут. Были у них аспидные доски, грифелями писали мальчишки, да доски побили, а грифеля растеряли. Да на этих аспидных досках много и не напишешь. Все время нужно стирать написанное. Да еще и доски нужно держать на коленях. А разве так можно писать? Я и про аспидные доски говорил старосте, а он махнул рукой.
— А почему же не пишут на бумаге? — поинтересовалась Маша.
— Гм! Гм! Какая бумага? У мужиков нет денег на покупку бумаги. А архиерей еще и выругал меня, сказал, что никакой бумаги не дадут, не надо было доски ломать.
Маша осмотрела давно не беленные почерневшие стены, запыленные окна с маленькими стеклами.
Евгений Иванович, потерев щеки и крутнув головой, достал из рясы кисет, свернул козью ножку толщиной с пухлый палец и задымил, откашливаясь.
Отец Василий, опершись на палку, склонил голову. Смущенно поглядывал на Машу Никита, припомнив, как и он когда-то сидел вот там на скамье под стенкой. Тогда еще черные аспидные доски и грифеля были целы.
— Вы уж, дорогая Мария Анисимовна, привыкайте, — тихо сказал отец Василий. — В Петербурге, наверное, не в такой школе учились. Ничего не скажешь, запустили. У меня руки не доходят. Нет времени сюда заглядывать. А отец Евгений болеет, и ему не до учеников, да и просится он, чтобы от школы его освободили. Так что извините.
— Да что вы! — подошла к нему Маша. — Я же не ваше начальство и не протоиерей из Полтавы. Если вы поможете, я тут буду учить детей.
— Думаю, что консистория разрешит, — ответил отец Василий.
— От души благодарю. Если позволите мне учительствовать, то мы наведем порядок, обновим школу. Да, Никитушка?
— Да, да, Маша. Прежде всего нужно, чтобы женщины очистили стены и побелили их мелом. И окна нужно помыть. А мы, мужики, соберем отцов учеников, поговорим с ними. Пусть каждый даст по доске. И я у отца попрошу. Думаю, что он не откажет. Сделаем такие столики, какие я в Петербурге видел.
— Парты, — сказала Маша.
— Да, да, парты.
Над рекой Орельчанкой плыли легкие пушистые облака. Они медленно двигались на запад по бледно-голубому небу, а Маше казалось, что застыли на месте. Сидела со своим первенцем в саду возле новой, недавно построенной хаты. Только что покормила его, и он, ухватившись цепкими пальчиками за расстегнутую кофточку, зажмурив глазки, спал и сладко посапывал носиком, будто знал, что его сон охраняет мать. Глянула на розовое личико сына и улыбнулась, вспомнив разговор со свекровью об имени для новорожденного. Как она напустилась на нее за то, что возразила ей. «Перечить старшим! Неужто родная бабушка хочет худа для любимого внука».
«Любимого»! Только родился младенец, второй день живет на свете, а уже «любимый внук». Маша была благодарна Харитине Максимовне за ее доброту и внимание.
«Чем я ей так понравилась? Быть может, тем, что приехала из далекого края? Или потому, что искренне полюбила ее сына, Никитушку моего ненаглядного?» Так думала Маша, и ее сердце было переполнено счастьем. Никита, как говорили цокотухи соседки, пылинки с нее сдувал. Все как будто было хорошо, и согласие в их доме, и нежный муж, и уважительное отношение его родных. Только одного не хватало: долго они были бездетными. И Маша чувствовала себя неловко перед женщинами-односельчанками. Со многими она подружилась, бывала у них дома, и к ней забегали женщины, то щепотку соли одолжить, то головку чеснока. И она к ним обращалась, то сыворотки для холодного борща просила, то огурчика свеженького, росистого, прямо с грядки.
Женщины не заводили с ней разговоры о ее бездетности, но знала, что за глаза судачили, высказывали разные догадки, почему у нее нет детей. И молодая, и здоровая, и красивая, и муж ее любит, на других не засматривается. Да и сам он такой красавец, хоть с лица воду пей. А детей нет!
Харитина Максимовна не раз говорила с невесткой об этом, успокаивала ее, мол, некоторые женщины по несколько лет ждут появления ребенка. Но таких очень мало. У большинства семей по десять, восемь детей, а то и по целой дюжине. По пятнадцать некоторые наши бабы приносят. Сама одиннадцать родила. Пятерых бог прибрал маленькими, осталось два сына и четыре дочки. Давно все поженились и детей нарожали.
— Я хочу рассказать тебе о моей жизни, — подсела ближе к Маше Харитина Максимовна. — Ты же горожанка, не знаешь, сколько слез пролили и проливают деревенские девушки и женщины. Чтоб они взбесились маленькими, все эти цари, чтоб им ни дна ни покрышки. Все время молодых хлопцев в армию волокут. Добро бы, на один или два года, а то надолго, теперь хоть меньше служат, по двенадцать лет, что ли. А говорят, что будут по шесть лет служить, такой вроде бы царь издал приказ. А раньше ведь по двадцать пять лет лямку тянули! Это только сказать легко. А молодые солдатки и девушки-невесты страдали. И как нашим мужикам было это горе пережить! Все молодые годы мучились на проклятущей службе. Мы с моим Пархомом на себе все это испытали, я чистую правду говорю. Мой золотой Пархом тоже отшагал двадцать пять лет. Взяли его восемнадцатилетним и гоняли как соленого зайца. Только подумать — на двадцать пять лет от дома оторвать!
— Так и прослужил все двадцать пять? — спросила Маша.
— Как один день. Где его только не носило! И на Кавказ гоняли, и с турками воевал. Когда рассказывал об этом, прямо диву давалась, как человек может все это выдержать. Даже в пустыню, где солнце сильно печет, водили их войско. Какой-то поход был. Пархом и говорил, да я забыла. Там еще город, куда они ходили, смешно как-то называют — то ли Гива, то ли Хива.