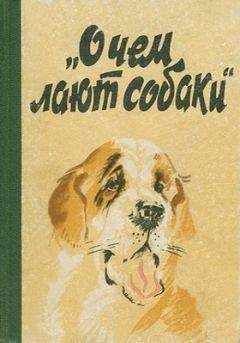Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
Он выуживал все новые и новые письма, перекапывал их, раскладывал и снова сгребал в кучу, а пальцем постукивал по листочкам так, что отзывалось дерево стола. Я поинтересовался, что он собирается с этим делать, и, подождав, пока наконец не выдавит из себя хотя бы пару разноречивых помыслов, сказал: «Позвольте мне обдумать все в спокойствии. Надеюсь, у вас есть возможность остаться в Мансанаресе до завтрашнего дня. Я бы предложил вам ночлег, но дом, как видите сами, в ремонте. Я слышал, что в номерах “Под Черным Петухом” вполне приличные комнаты, что же касается кухни, я и сам порой посылаю Фелипе за небольшой порцией чоризо в красном вине. Но если у них ничего не найдется, то, вне всякого сомнения, вам что-нибудь подвернется в городе». И я препроводил его, подрыгивавшего, в коридор, а оттуда, неторопливо подталкивая плечом, – к дверям, точно так, как направляют бьющуюся о стекло бабочку в приоткрытое окно.
Письма лежали на кухонном столе так, как мы их и оставили: в беспорядке, одно на другом, вокруг тарелки, стакана, выпитой бутылки вина в плетеной корзинке и блюда с остатками курицы. Я старательно собрал письма, велел Фелипе убрать со стола, а сам, держа в руке целую стопку, прошел в залу на первом этаже и отыскал секретер отца. Чтобы добраться до него, мне пришлось стянуть на пол большую тряпку, а потом еще и отодвинуть четыре стула и маленький столик; наконец я придвинул к себе один из этих стульев и уселся за откидной доской.
Я бросил письма на покрытый грязными пятнами тисненый сафьян и начал укладывать их по порядку, одно за другим. Почти все они имели дату и были написаны второпях, чаще всего без запятых, да и точки не всегда поставлены, словно каждое предложение могло оказаться последним и в него следовало вместить все: известие о смерти ребенка и покупке нового экипажа, о том, кто сколько подстрелил зайцев и куропаток, о заказах и заказчиках, сетования на старость, просьбу прислать бушель кукурузной муки, сплетни о том, что Байеу услышал от инфантов о своем полотне, но в первую очередь болтовню насчет денег – о вложениях, ссудах, ценах. Тринадцать реалов пошлины за бурдюк, четырнадцать за корсет, который мать моя сшила для тетки Сапатера, одиннадцать за пересылку, десять дублонов за пару мулов, сто одиннадцать реалов ссуды, двадцать девять за бушель ячменя.
Но только слепой не увидел бы, что скрыто между строчками и даже в самих строчках, написанных ясно и понятно, без недомолвок, даже если я и не догадывался, почему он называл себя Девой Служебницей или о чем идет речь в случае каплуна – разве что болезнь лишила его не только слуха? Что они делали в Фарлете и Карабанчеле, что общего имели с этим овечки? И откуда вдруг у человека, который сроду не читал стихов, взялись «голубые балконы» и «цыган сердца»?
Но я видел: у них был свой тайный любовный язык, чтоб никто из посторонних, из тех, кто не принадлежал к их миру – где сливались воедино охота, гончие, скабрезные шутки, громоподобная порча воздуха, складки жира, жесткие волосы, свидания отверстий и отростков тела, – чтобы ни один чужак, в чьи лапы после их смерти попадут эти не преданные огню письма, не догадался, о чем шла речь в случае каплуна, Фарлете и студенческих пелерин, откуда взялись чувственные слова, что отсылают к известному только им вечеру, пьяной шутке, необычному происшествию во время их странствий. Студенческие пелерины? То есть все началось еще в ту пору? Сколько же мне тогда было? Первое письмо… ему еще нет тридцати, десять лет до моего рождения… он уже покинул родную Сарагосу, вернулся из путешествия по Италии, женился на маме, а щупанье под студенческими пелеринами все еще продолжалось. И длилось более четверти века. Так, будто его жизнь сама по себе была гравюрой: то, что все мы видели как темную затушевку на белом фоне оттиска, на «доске» выглядело совершенно черной картиной с легкой белой штриховкой.
Но даже если не верить словам, были ведь еще и рисунки. Между строчками, на полях, вокруг подписей: жеребец, уж, ружье и охотничья сумка с торчащими из нее заячьими лапками, разложенные и расставленные на кошме мисочка для намыливания помазка, хлеб, сыр и бутылки, а прежде всего, тела – изредка мужчин и женщин, но чаще – одних мужчин, в отвратительных позах, спаривающихся, как животные. В некоторых я мог узнать его самого: бакенбарды, густые волосы с пробором посредине, временами короткие, иной раз подлиннее; я видел, как он стареет, как его нарисованное тело становится все более дряблым и грузным, как у заплывших жиром старых барсуков, волков и медведей. Узнавал я и того, с большим орлиным носом и косматыми бровями. Подмечал и его изменения.
И вспомнилась мне его мазня из Бордо: ярый бык с крылышками бабочки. Мог ли я когда-либо подумать, что это он нарисовал самого себя?
Я был сконфужен, словно вошел в спальню и увидел его, голого, возлежащего на теле другого мужчины, вспотевшего, тяжело дышащего. И, сидя перед ящичками открытого секретера, всматриваясь в их потускневшие ручки, я вспомнил, что когда-то, много лет назад, я не раз представлял себе такую сцену: как я влетаю в спальню с рапирой, как исступленно вбиваю ее в широкую спину – сверху, возле плеч, поросшую редкой щетиной, а внизу гладкую, так и манящую нанести укол. Теперь я не испытывал ни исступления, ни отвращения, ни жажды убийства, а всего лишь удивление, изнеможение и нечто похожее на стыд.
Как и тогда, когда Гумерсинда сказала мне, что его последними словами были: «Мартин, любовь моя, иду…»
Говорит МарианоПозавчера поздним вечером горничная разбудила маму; привела Фелипе, тот только-только приехал из Дома Глухого и настаивал, что дело не терпит отлагательств и что «сеньор будет очень зол, вернись он с пустыми руками»; отец велел вытащить все бумаги деда, «в особенности те, глубоко запрятанные, все, что найдется на дне ящиков, а уж тем более письма»; послали и за мной, хорошо, что я еще не спал, потому что у нас затянулось музицирование (пришли новые ноты, на сей раз из Вены, и мы с Консепсьон целый вечер разучивали неизвестную нам сонату, а потом сели за вист и фараона), так вот, поехал я в дедовский дом и там битых два часа рылся в тумбочках, на полках и во всевозможных ящичках в поисках того, что могло интересовать отца; спать я лег за полночь, валясь с ног, весь в пыли. Лишь утром – а точнее сказать, в полдень – я задался вопросом: ради чего? Ради чего вот так, с бухты-барахты, в спешном порядке, переносить документы тридцати-сорокалетней давности? Но тогда, ночью, убедительным ответом для меня был испуганный взгляд Фелипе, который то и дело повторял: «Сеньор ждет, сеньор будет очень зол».
С возрастом, пожалуй, стоит привыкнуть к чудачествам чужой старости; тогда легче привыкнешь к чудачествам собственной.
Говорит ХавьерКартина должна находиться где-то здесь – и она тут была, ее привезли вместе с другими на свадьбу Мариано, прихватили из Мадрида совершенно случайно, ведь никому бы и в голову не пришло повесить ее в комнатах, через которые пройдут свадебные гости. Я помню, как он прятал ее от меня, чтобы я не увидел, чем занимаются эти маленькие фигурки, и еще помню, что он написал два таких холста, чего за ним никогда не водилось, – не знаю, насколько один был верным отображением другого, но помню, что стояли они рядышком на двух мольбертах, а он выходил из себя, повторяя, что копирование – дело для глупых барышень, а не для настоящих живописцев. Знаю и то, что один из них он послал Сапатеру, а другой до конца жизни где-то прятал, и даже тогда, когда при дележе состояния я унаследовал все его картины и, описывая их, ставил с тыльной стороны крестик и номер, ту единственную я вытащил из кипы холстов и отложил в сторону, так что до сего времени она не числилась в списке.
Теперь, когда я выгреб ее из какого-то шкафа, где она лежала вместе с другими, не приличествующими свадебному дому холстами, и размотал грубое коричневатое полотно, в которое она была завернута, я мог рассмотреть ее внимательно, но все еще ничего не понимал. Насколько я мог судить, это был дом умалишенных, кажется, сарагосский, где умерли его дядька и тетка Лусьентес; не иначе как навещая их в молодости, он вдоволь насмотрелся на таких типов и спустя годы запечатлел их. У стены, на которую падает свет из открытого белому знойному небу, но зарешеченного окна под потолком, теснится толпа полуголых мужчин. Один в шишаке с перьями и деревянным мечом – его руку целует некто в очках и капюшоне, другой в короне и с цепью, сплетенной, должно быть, из сена, вытянутого из сенников, – этот благословляет подданных; ближе, в центре, на полу, спиной к зрителю сидит еще один – тот прикладывает к голове бычьи рога: то один рог, то второй. Еще кто-то, стоя на коленях, жарко молится, еще один катается по каменному полу, корчится, верещит. Мускулистый мужчина в треуголке прицеливается из несуществующего ружья, видимо, когда-то был солдатом или охотником; тут же за ним другой, сгорбленный, седлает коня на палке. У столба сидит некто, в прошлом, по-видимому, шулер – за повязку на голове заткнул карты, – в руке у него свеча или скипетр, и он, закрыв глаза, поет-заливается.