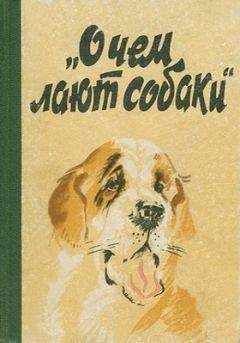Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
И что теперь прикажете, мучиться угрызениями совести? Не с этим же она пришла. Пришла, наверно, со своими угрызениями совести, но меня они не трогают. «Говорят, в страшной нищете там жили. Росарио содержала себя и мать какой-то мелкой работенкой. Давала уроки рисунка, писала миниатюры на заказ. Расписывала узоры на обоях».
Нет, вы слышали, какое совпадение?! Какое стечение обстоятельств?! Она писала узоры на обоях, и я пишу на обоях. Говорю Гумерсинде, но ее это не смешит. Ничуть.
«Прекрасная шаль!» – замечаю. А она: это, мол, от Мариано, даже сейчас помнил, несмотря на смерть Марианито. А я: может, у нас, мол, всего-навсего один сын, зато исключительный. Пусть хоть как-то утешится уставшая душа, замкнутая в теле с его жировыми складочками, усиками и капельками пота.
Говорит МарианоЯ назвал сына Мариано Хавьер, чтобы сделать приятное Брюхану. Вот идиот-то! Дать имя – это ж не шутки. Я бы мог назвать его Мариано Франсиско, и, может, тогда было бы в нем больше от прадеда. От его силы и таланта. А я, как гангреной, заразил его именем, убил в тот самый день, когда священник полил ему на головку водичку и окрестил Мариано Хавьером. Как же так произошло, что стал он похож на деда, а не на собственного отца? Такой тихонький, слабенький, будто увядший уже в колыбельке, – о спасении и речи не было. Говорят, что дети вообще скорей похожи на стариков, а не на родителей; ведь разве то, что нравится во мне женщинам, не пришло от великого Франсиско де Гойи? Эта элегантность, эта внутренняя сила, этот блеск старой аристократии, удвоенный блеском гениальности! И все это мой малыш мог бы унаследовать от прадеда. А от меня – титулы и богатство, а до них рукой подать, они все ближе и ближе; мне тут на глаза попалось известие о фантастических залежах серебра в Перу, почти на поверхности, достаточно протянуть коротенькую железнодорожную ветку через горы. А еще я положил глаз на двух старикашек грандов, один с карточными долгами, другой прозябает в полуразвалившемся дворце, и все его общество – слепая собака да хромой слуга; еще месяца три, и оба продадут мне свои титулы за гроши, за сотую часть того, что принесет мне Перу. А если нет, то всегда остается железная дорога в арагонской провинции, сделки там приносят гигантские прибыли, крестьяне продают землю за бесценок, а железка их потом скупает за сотни тысяч. Собственно говоря, и зятек мой когда-нибудь сможет взять нашу фамилию, прославленную по всей Испании и за ее пределами; и дети его, то есть мои внуки, будут чистокровными де Гойя, даром что сам он мне почти чужой человек.
Говорит ХавьерЯ присматривался к нему в колыбельке и позднее, когда он уже начинал ходить. «Куда ты лезешь, – еле слышно шептал я ему или бормотал про себя, – куда ты лезешь, глупышка? И в самом деле хочешь погрязнуть в этой мерзости, где отец отравляет жизнь сыну, сын – внуку, внук – правнуку, причем каждый на свой лад, все ловчее? И в самом деле хочешь продолжить череду семейных мытарств?» И вот пожалуйста – дифтерит. Неглупый малыш.
XXXV
А все же та маленькая смерть причинила мне страдания. И отзывалась во мне всякий раз, когда я вставал с постели или отходил ко сну, за работой, обеденным столом или когда случалось внезапно провалиться в дрему, а потом неожиданно стряхнуть ее с себя, тогда я чувствовал, будто что-то вцепилось мне в волосы и тащит меня к краскам и кистям, – в каждую из таких минут эта маленькая смерть пульсировала в моем теле, словно торчала в нем заноза или застрял осколок снаряда.
Это была не скорбь, я не успел к нему привязаться, а то, что второе имя дали ему в мою честь, мало что для меня значило; просто я осознал, что высмеял он всех и вся, нашел выход из положения, бросив свой белый камешек в черную стоячую воду смерти. Просто я завидовал ему, тому, что, когда я был таким же – маленьким, как личинка, розовеньким, пускающим слюни, нелепо шевелящим пальчиками, следящим глазками за чем попало, – такое не пришло мне в голову.
Насколько же проще оказалась бы моя жизнь – несколько дней, недель, а возможно, и месяцев, уготованных для работы кишок. Я бы знать не знал своей семьи, оказался глух к словам близких, а они – глухи к моему гулению. Никаких жен, отцов и собственных детей, никаких романов и холстов, никакого имущества, я бы ничего не покупал и ничего не продавал – всего-навсего бренная кишка, что попереваривала бы себе, попереваривала и сдохла. А вместе со мной исчез бы и Мариано, и Марианито, и еще немало людей, которым, оттого что я выжил, ничего не оставалось более, как появиться на свет Божий.
Я расписывал стены и за работой завидовал ему. И размышлял: как бы все сложилось, будь я таким же, как он. Я бы не стоял возле стены, не накладывал широкой кистью краску, а преспокойно лежал бы себе в гробике. Личинки кишмя бы кишели в моем мясе, червяки протискивались сквозь глазницы, а сороконожки сновали среди крохотных косточек. И никого не интересовало бы, на кого я похож, а сам я не передавал бы своим детям и внукам сходства с родителями и дедами, поскольку походил бы на иные истлевающие тела, на всех своих братьев и сестер: Антонио, Эусебио, Винсенте, Франсиско, Эрменхильду, Марию де Пилар, которые, будто сластями, объелись ядовитыми цинковыми белилами.
Не скажу, чтоб я писал ежедневно. Такой нужды нет, я не с этого живу. Бывают и выходные. Начинаются они так же, как и рабочие дни: я встаю с постели, и заканчиваются точно так же: я ложусь в постель. И не залеживаюсь в своем логове, уставившись в стенку. Насмотрелся я уже на стены – и тогда, много лет назад, разглядывая потрескавшуюся беленую штукатурку возле супружеского ложа счастливых молодоженов Хавьера и Гумерсинды, и теперь, рассматривая вблизи то, что через минуту погибнет под краской: гладкие и шершавые участки, бугорки и поры, в которые проникнет и которые запечатает блескучая влажная зелень. А что же тогда, если не залеживаться в ворохе помятых простыней и не пялиться на стену? Я мог бы, как старый хрыч, возиться в земле, выращивать артишоки, охотиться на зайцев и птиц. Мариано пришел бы в восторг, займись я садом и огородом, покрикивай на садовников и рабочих, веля им копать рвы, наводнять почву, сооружать фонтан, сажать рядами деревья.
Но я всего лишь прохаживаюсь. В прогулках немало радости, за которую ты никому ничем не обязан, радостно даже тогда, когда так жарко, как в последнее время, когда человек с трудом переводит дыхание и обливается потом. Может, я и не понимаю прихотей старика и молодого, этакого подчинения себе земли – вскапывания, высаживания, выращивания, – но мне понятна радость, переполняющая меня, когда я обхожу свои владения. Это моя земля, у меня на нее бумага. Чужаку я могу сказать: сойди с моей земли. Топчешь ее, а я этого не хочу. Я могу расхаживать по ней с палкой в руке, размахивать этой палкой, заглядываться на прачек на берегу Мансанареса, обозревать поля и город, сверкающий вдали на солнце, как раскаленная глыба известняка.
В такие дни никто не приходит. Да и вообще никто не приходит, даже в рабочие дни, а если кто и придет, так на пороге Фелипе, уведомляет, мол, сеньора нет дома или же он занят, на том и конец; и я могу себе преспокойно писать дальше, разве что наведаются Мариано или Гумерсинда – тех следует уважить. Оторваться от стены, сойти с лестницы, отложить кисть, вытереть руки. И следить, чтоб не дотрагивались до невысохшей краски, лучше всего не пускать их в новое крыло – на первый этаж, или наверх. Но в выходные отваживать некого, решительно некого, будто все в тот день отдыхают от Хавьера Гойи, будто устроил он выходной для всего мира, а мир – для него. Тогда я могу бродить по пригоркам и полям, разглядывать ящериц и пожухлые травы. И камни. У половины камней есть свое лицо, люди, конечно, стесняются признаться, что видят эти лица, в детстве они их различали, а потом стали стыдиться. У остальных камней тоже есть лицо, только оно спрятано поглубже, как и у людей – не у всех же оно открыто. Поэтому я глазам своим не поверил, когда в воскресный день заявился этот человек, я уже прогулялся и отобедал и как раз вставал из-за стола, готовясь к сиесте.
Он вошел, запыхавшийся, даже не представился, только вытащил из подмышки большой сверток. «Вот эти письма!» – сказал он так, будто предъявил некое доказательство, будто вынес мне приговор или провозгласил непреложную истину. А потому я и спросил, что это за письма, какие письма, чьи письма. «Как это – какие? Как это – чьи? Вашего папаши к моему дядьке!» А сам воззрился на меня и глазками хлопает, хлоп-хлоп. Ибо провозгласил то, что, по его мнению, я обязан знать. «Простите, – говорю ему, вытирая руки салфеткой, – с кем имею честь?» А он снова, как герольд или как Тирана с театральных подмостков, возвещает: «Франсиско Сапатер-и-Гомес, племянник Мартина Сапатера!»
И впрямь, припоминаю, был такой Сапатер, умер лет тридцать назад, случалось, приезжал к нам, чтобы со стариком поохотиться. Отбывали они на несколько дней, направляясь то в одно место, то в другое, а постреляв, разъезжались по домам, отец – в Мадрид, а тот – в Сарагосу.