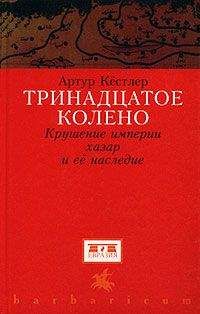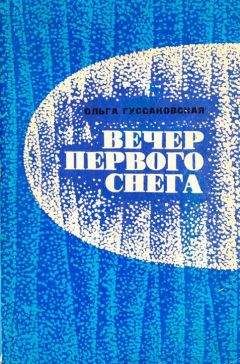Аркадий Макаров - На той стороне
Но кабы махоркой питаться можно? Горечь одна во рту.
В то время что на колхозный трудодень, что на зарплату-жалование прожить было невозможно, и ловкие бондарские бабы зарабатывали на семью старинным народным промыслом – вязали лёгкие кружевные, как морозная пороша, платки.
Перекупщики-барыги ходили по домам, скупали бондарские рукоделья, чтобы потом на богатых Северах обращать их в хорошие деньги.
Бабы вязали быстро и хорошо, была бы только шерсть на пряжу. А шерсть шла тонкорунная, особая, у нас, её называли «метис».
Шерсть стоила дорого, так что прибавок был совсем лёгким, но он помогал выжить.
Милиция с этим злом народного промысла, как могла, боролась, но на то она и милиция, чтобы с ней договориться. Так и жили.
Собрался отец в гости к своему другу Зуйку, соскучился по товарищеским разговорам, по воле, по надёжной выпивке, которая, хоть на короткое время, но отваживает от повседневных гнетущих дум, от семейной запарки. Мать только махнула рукой:
– Иди! Что там… Кизяков на топку принёс и ступай. А если будут вино подносить – отказывайся. Пустой ведь идёшь, нехорошо!
– Ну, у Зуйка особенно не нагостишься. Он сам на дармовщинку выпить не дурак, – успокаивал её отец, идя на оговор друга.
– Ну, ступай! Да ненадолго.
Проскользил по ледку через речку, взобрался в гору, вспомнил, как они с Зуйком вон за теми дворами в подсолнухах курить учились…
А вон и дом его родительский! Метнулся взглядом – нет ничего! Проулок на этом месте. Одна черёмуха только и осталась. Сквозит на ветру снегом переметённая. Вроде и не жил здесь никто раньше.
Передёрнул отец плечами: «Во, какая она, судьба-то! Переметёт, как ту черёмуху, снежным кружевом, ознобит до костей…»
А вот и хоромы его друга. Крыша железом оцинкованным крыта. Палисадник не плетнём огорожен, а штакетник стоит один к одному, как солдаты в шеренге. Двор тёсовый. Неплохо живёт. Неплохо. Откинул щеколду, вошёл в сени. Нащупал рукой дверь в избу. Дверь для тепла ватой простёгана, клеёнкой обшита, справная. Вздохнул, и вместе с клубами зимнего воздуха встал на пороге:
– Здорово был, земляк!
Зуёк сидел у голландки, покуривая. На ногах носки шерстяные, из кручёной пряжи, толстые, как валенки. Ногам в них, словно в печной горнушке, – жарко. Только ревматизм лечить. Увидел старого друга, так и вскинулся:
– Ах, мать-перемать, Васёк пришёл – явился! Проходи! Садись! Марья! – кричит жене через дверь в горницу. – Стол собери! Васятка из Бондарей пришёл! Прозяб, чертяка. Сугрев нужен?
Марья, бывшая подруга ребячьих забав, пулей выскочила из дверей.
– Василий, – всплёскивая руками, – а ты, никак, стареть начал? Родниться перестал. Бывало, чуть свет, а ты ужо – вот он! На ледянках давай кататься! Теперь носу не кажешь. А сугрев – что ж? И сугрев можно для хорошего человека, кабы только обратно дошёл.
Возвращается мой родитель весёлый, весь в морозце. От вина щёки горят.
– Давай, Настасья, готовь деньги! Зуёк в Алма-Ату едет за метисом и меня с собой берёт. Говорит, там шерсти, как у нас сена в стогах. Привезу пудика два – поправимся. А то вон бродяга, – указывает на меня, – оборвался весь. Скоро в школу ходить не в чем будет. Да и хлебушка подкупим, мучицы. Блинков – страсть, как охота!
– Откуда деньги, отец? Вчера на последние бутылку постного масла купила – всё. Подумай сам, на какие шиши поедешь, когда в кармане блоха на аркане?
Да, действительно… Сдулась с отца лихая поспешность. Самое малое – где деньги взять? А доставать надо, барыш сам в руки просится – один рубль червонец за собой потянет. Деньги…
Вспомнил: один его приятель по прошлой руководящей работе – в банке, заведующий. Барков. Тузовый мужик! В каждой руке по козырю, и не одной битой.
Не говоря матери ни слова, утром пошёл отец к Баркову. Ссуду просить на обустройство жилья: «Выручай, товарищ Барков, дом ухетать надо. Одни стены и крыша. Сам посмотри! Жить как? Дети в соплях путаются. Болеют «.
Пришёл домой весь гордый, добычливый. Положил на стол пачку – вот они, тити-мити! Завтра едем к аксакалам. Шерсть скирдовать. Метиса привезёт – во сколько! Обернёмся, вся нужда завистью изойдёт. Когда-то надо опять по-человечески жить!
У матери сердце – вещун. Стоит, за грудь ухватилась:
– Василий, чем отдавать будем? Под дом, зачем подписался? На улицу с ребятами идти придётся. Там одних процентов уйма! Не расплатимся, Василий!
– Не гунди, баба! Деньги, они к деньгам идут. Коммерцию понимать надо.
Пришёл дядя Серёжа, уговаривал отца вернуть деньги в банк. Дело-то рисковое.
– А пошли вы все! – матюгнулся отец и стал собираться в дорогу.
А нищему собраться – только подпоясаться. Принёс из сеней мешок. Сыпанул туда чугунок картошки в мундире, пару щепоток соли в газету завернул. Оба кармана махоркой набил – дорога дальняя на курево дюже жадная. Табачок в дороге – первое дело! Оттолкнул от себя дверь – и в синий обвал зимнего утра.
С почтарём до станции Платоновка не видно как добрался, где его уже Зуёк поджидает.
Алма-Атинский поезд только после обеда будет. День как начнёшь, так и кончишь. Ну, с Богом!
Действительно, Зуёк поспел раньше его на станцию, уже сидит на казённом диване, покуривает.
– Здорово!
– Здорово!
– Пойдём в буфет, теперь я угощаю! – отец полез за пазуху.
– Не гони рысью! До поезда – ни грамма! Ни-ни! А в поезде мы и без буфета обойдёмся, – Зуёк показал глазами на свой оттопыренный карман полушубка, из которого вытянула шею на свет божий опечатанная сургучом знакомая райпотребсоюзовская бутылка толстого зелёного стекла.
…По всем щелям, сипя паром, подтянулся к станционному зданию пассажирский поезд Москва – Алма-Ата. В голубых окнах – праздничный свет. Люди без зимней одежды, раздетые, к стёклам прильнули: «Что там таится в этой глухомани?»
Сразу захотелось туда, в домашнее тепло, где свет электрический и праздник вечный.
Два друга, закинув нехитрые пожитки на верхнюю полку, уселись у столика – места были свободные.
– Вот теперь и оскоромиться можно! – Зуёк поставил бутылку, вытащил из солдатского вещмешка завёрнутую в промасленную газету с коричневой корочкой, обжаренную целиком в духовке, курицу, рядом положил большую, ещё пахнущую печным жаром пышку, две луковицы:
– Давай, Васёк, угощайся!
Отцу стало стыдно за свою мундирную картошку, за чёрствый кусок перемешанного с лузгой хлеба.
Но Зуёк только посмеивался:
– Ничего! Без картошки, какая пьянка? Давай сюда!
«Ещё неизвестно, кто богаче, – оправдывал себя мысленно отец. Зуёк с Маруськой бобылями живут, а у меня детей полна изба. Он своё проживает, а я взаймы отдаю. Вырастут, скажут: – На, отец!» А что – «на», он так и не сумел представить: то ли хлеба кусок, а то ли вина стакан, а, может, то и другое.
Но старый дружок не дал ему долго раздумываться: налил половину алюминиевой кружки:
– Держи, дружбан!
Хорошо ехать! Вагон покачивает. Паровоз покрикивает: – Уйди-уйди с дороги!
После Саратова, за Волгой – ни огонька, ни домика. Пластаются ветреным степным свеем снега, снега, снега. Просторная страна. Пышек да курей на всех должно хватать. Табуны птиц домашних водить можно. И-иех!
Отец крутился на верхней полке, заглядывал в окно и удивлялся широте открывающегося пространства.
Алма-Ата, «отец яблок» – так, кажется, переводится имя этого азиатского города с тарабарского языка – встретил их по-летнему ярким солнцем и многоголосьем. Больше всего удивили горы, их белизна и недоступность. Как будто земля в этом месте поднялась на дыбы, опрокинулась и вмёрзла в ледяную глыбину неба, отгораживая пространство города от иных, немыслимых сфер.
Был воскресный день, и базар, по-восточному шумный и цветистый, ошеломил двух мужиков из русской глубинки, где по таким же воскресным дням, если и собирается рынок, то не более полста человек с разной домашней мелочёвкой, разложенной на посеревших от времени и дождя лавках, в надежде на барыш, а больше по необходимости – продаст баба десяток сэкономленных на ребятне яичек, хлеба купит или отложит рублик себе на исподнее, а, может, к школе своему сорванцу костюмчик удастся справить – Господь пошлёт. Купля-продажа на сельском рынке происходила с невесёлого разговора о житье-бытье и взаимном согласии на цену. Ладиться и стучать в ладони не приходилось, товар не тот. На самом деле, не будешь же из-за кружки молока или поношенной обуви бить себя в грудь, выторговывая от рубля копейку.
Здесь же всё происходило по-другому – что к чему, сразу и не разберёшь. Верблюды, гордые, как богдыханы, жевали свой нескончаемый рахат-лукум, с презрением поглядывая на толпящихся и снующих туда-сюда людей в серых стёганных, как русские телогрейки, халатах и неизменных, с восточным орнаментом, тюбетейках. Крикливый и неуступчивый народ! Резкие, как под нож, возмущённые голоса ишаков своей неожиданностью заставляли испуганно вздрагивать и оглядываться – «Тьфу ты, чёрт! Орёт, словно яйца дверью прищемили!»