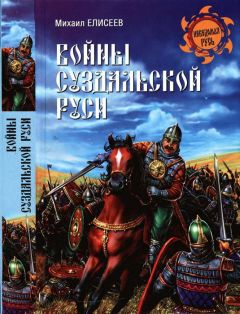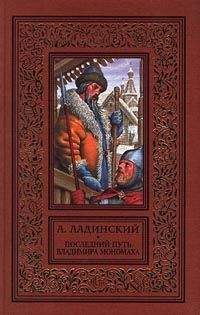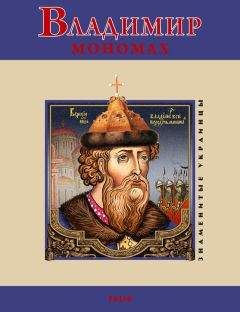Игорь Минутко - Бездна (Миф о Юрии Андропове)
— Черт! — Последовал виртуозный русский мат.
«Нет,— подумал в сладостной тоске Владимир Александрович,— Это слуховая галлюцинация. Или сон на тему: «Тоска по родине».
— Черт! Ведь этот педик запойный. Ты тоже хорош! Мог бы заглянуть в холодильник.
— Не моя сфера,— сказал новый мужской голос, молодой и энергичный.
— И запои у него на дни, а то и неделю. Что будем делать?
«Да кто же там такой?» — без всякого проблеска догадки подумал господин Копыленко и заорал громовым голосом:
— Водки! Русской… вашу британскую мать! Русской водки!
За дверью стихло.
«Спугнул голоса»,— с сожалением подумал Владимир Александрович и запел:
Ехал на ярмарку ухарь-купец,
Ухарь-купец, молодой удалец!…
Кажется, открылась дверь.
«Кто-то вошел»,— подумал без всякого страха и любопытства господин Копыленко.
И тут же с ним что-то произошло: Владимир Александрович ухнул в черную тяжелую воду и поплыл в ней, задыхаясь, к яркой красной точке далеко впереди.
«Ну и хреновина!» — с удивлением думал он, старательно гребя руками. Вода была густая и ничем не пахла.
И наступило безликое ничто. Никого не было окрест. И красная точка куда-то запропастилась. Впрочем, не было и самого Владимира Александровича Копыленко: ничто есть ничто.
28 февраля 1982 года
Но ведь все кончается, не так ли? Кончилось и ничто.
Владимир Александрович вынырнул из него, обнаружив себя на кровати в «своей новой квартире», аккуратно накрытым одеялом. И сам он был каким-то аккуратным. В изгибе болела левая рука. Шторы на окне разведены в стороны, и через чистое стекло косо бьют солнечные лучи. Утро. «Надо же! — подумал он.— И у них в Лондоне в феврале солнце бывает». Господин Копыленко приподнял голову и покрутил ею. Похмельного состояния не было. Было какое-то другое состояние, не поддающееся определению,— вроде бы на себя смотришь со стороны: вот ты лежишь на кровати, на спине. Морда небритая. Но голова работает нормально — все, все, все помню. Чудеса какие-то! Ты одновременно ходишь по комнате и лежишь под одеялом. Владимир Александрович плюхнулся в кресло и с интересом наблюдал, как другой Владимир Александрович, небритый и нечесаный, выпростал из-под одеяла левую руку и, поморщившись от ноющей тупой боли, стал ее рассматривать.
«Сволочи! — На изгибе набухла вена, и в этой красной опухлости с лиловым отливом виднелась дырка от иглы шприца.— Сволочи! Какую-то дрянь впрыснули. Делают со мной что хотят. Ну, британцы! Я вам…»
Господин Копыленко, сидящий в кресле, закинул ногу на ногу, а тот, что лежал в кровати, подтянул одеяло к подбородку.
И наступило некое просветление: «Как бы ни повернулось дело… Может, меня уже сегодня не будет в живых… Да и жить не хочется. Да, да! Господа, товарищи и джентльмены! Опостылела мне эта паскудная жизнь… Стоп, стоп, Володя. Давай мыслить логично. Одно бесспорно: даже если ты еще потелепаешься годков несколько на этом свете, прежняя жизнь кончена, возврата не будет. Значит, что? Значит, паренек, самое время подвести итоги и принять решение. Поспеши, поспеши, Володя! Они могут прийти в любую ближайшую минуту». Господин Копыленко заволновался: тот, что лежал в кровати, судорожно повернулся на левый бок и прижал колени к животу, а другой господин Копыленко, сидящий в кресле, прошелся по комнате, косясь на своего двойника, который под одеялом сучил ногами, и вдруг, очнувшись у маленького столика, стоявшего возле окна, увидел на нем стопку чистых листов бумаги, несколько шариковых ручек и лист машинописного текста, начинавшегося так (отпечатано на русском языке): «Прошение» (большими буквами на середине строки). Далее, с абзаца: «Я, Копыленко Владимир Александрович, подданный Советского Союза, обращаясь к английскому правительству, прошу…»
— А большого-большого члена с розовым бантиком,— заорали оба Владимира Александровича в один голос,— вы не хотите вместо прошения? Да я…
«Стоп, стоп, Володя! Сначала — итоги. Итоги… Будем откровенны, как на Страшном суде,— итоги бездарной, никчемной, несчастной жизни. Да, да! Несчастной… Был ли ты хоть немного счастлив, Володя? Ну, ну? Говори! Ни-ког-да! В своей стране, в России, я не был счастлив ни единого дня. Привилегии, дарованные отцовским рангом? Да провались они! Ведь я всегда это чувствовал: не заслужил, не по чину, не по совести. А вокруг такие же, как ты, с одной заботой: не потерять, что нахапали. Как бы не отобрали. Этот вечный животный страх. А сами «привилегии»? Квартира по цековским стандартам, госдача, машина с холуем-шофером (он же и стукач, приставленный к тебе гебистами), возможность ездить за границу, спецснабжение… Господи! Да эти жалкие привилегии на Западе — норма средней жизни для рядового гражданина. С единственной разницей: здесь все это честно заработано, а для нас, для «совизбранных», особенно сынков кремлежителей,— халява, дармовщина и более точно: у народа украдено,— Оба господина Копыленко перевели дух.— Давай, давай, Володя, крой! Первый и, наверное, последний раз в жизни. Ведь кто я? Бездарь! Как меня принимали в Бауманское? По звонку из отцовской канцелярии. Кто за меня аспирантскую работу писал? Спасибо, Гоша Арнаум и Катенька Шахова… Но ведь и расплатились с вами предки по-царски. Дальше… Ведь я ни хрена не понимаю в этих компьютерных технологиях,— Два Владимира Александровича, показывая друг на друга пальцами, расхохотались,— И зачем я им понадобился? Что они с меня поимеют? А замена моей персоне в Москве будет найдена уже завтра. (Ах, Владимир Александрович! Уж больно вы заклинились на собственной, хотя, по вашим же словам, и ничтожной персоне. Ну, еще немного! Отвлекись от себя и… Ну! Ну же! И главная причина, происходящего с вами, откроется. Нет, не может…) Итак, основной итог прожитых сорока пяти лет: я не состоялся, жизнь не состоялась. Я никогда не был счастлив. Разве что эти краткие праздники-поездки за границу, в которые ты вырываешься из любимого Отечества, как из тюрьмы. Несколько тайных романов. И последний, самый пленительный. Паша, Паша! Зачем ты так…— Оба господина Копыленко застонали, скрежеща зубами, и снова исторгли вопль: — Несчастлив! Несчастлив! Несчастлив!»
И обоим вспомнилось…
Этого нежного мальчика, Илюшу, музыканта, забыть невозможно. На чем он играл? А! Не важно. Они познакомились в Сандунах, и роман был не только краток — мгновенен: всего две сладостные встречи. И вот, во второе свидание, Илюша это сказал. Закутавшись в простыни, они сидели в комнате, наполненной запахом французского дезодоранта,— перед столом с изысканными закусками и заморским питьем. Илюша, уже изрядно пьяный, жадно, быстро ел, зло поглядывая на Владимира Александровича и, проглотив кусок бело-розовой семги (он жевал ее без хлеба), откинувшись к стене, обшитой финской вагонкой, тихо заговорил, прямо, не мигая глядя в глаза товарища Копыленко.
«Я тебя ненавижу! Больше у нас встреч не будет. Хорошо, что ты не представился, не назвал своего имени. И — не надо! Я и так вижу. Ты из них…»
«Из кого?» — с непонятным страхом спросил тогда Владимир Александрович.
«С самого верха. Из тех, кто распял Россию, кто сосет, как пауки, ее кровь. И запомни: ты не хозяин своей судьбы. Ты такой же несчастный, как я. Тебя, как и меня, она в любой момент, если ей это понадобится, раздавит, как вонючего клопа».
«Кто — она?» — в ужасе прошептал Владимир Александрович, потянувшись к бутылке с водкой.
«Система, которую вы создали. Усвой, узколобый кретин, что в этой стране не может быть ни счастливых людей, ни счастливых народов».
«…Ты прав, ты прав, Илюша! — убивались оба Владимира Александровича в спальне непонятной квартиры в непонятном доме, затерявшемся в каменных джунглях где-то недалеко от Пикадилли-Серкус,— Меня раздавили. И если не сама наша система — будь она проклята! — то благодаря ей. (Да, господин Копыленко, вы явно лишены аналитического мышления…) Но — хватит ныть! Итоги подведены, диагноз поставлен: вы, товарищ Копыленко,— никто, прожили несчастную пустую жизнь, никому не доставив радости, никого по-настоящему не любя, не принося пользы Отечеству. Что же… Грешен, каюсь. Скорблю. Но остается одно… Я принимаю решение. Может быть, это будет единственный поступок в моей никчемной жизни. Система — не Россия. Система когда-нибудь сгинет. А Россия…»
Оба Владимира Александровича поднялись — один из кресла, другой с кровати, подошли к небольшому зеркалу.
— А Россия,— негромко сказал, рассматривая себя в зеркале, Копыленко,— пребудет вечно, пока стоит мир. И ей я не изменю.
После этой несколько высокопарной фразы настроение нашего второстепенного героя (винтик! Винтик! Но ведь из винтиков, гаек, болтиков собираются машины, агрегаты. Сломал один винтик, расплющил гайку, свернул голову у болтика — и пожалуйста: разваливается машина, обращается в прах, бессильно замер на ниве бытия огромный агрегат, теперь похожий на исполинского динозавра) резко улучшилось.