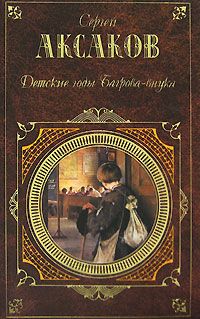Валентин Костылев - Иван Грозный. Книга 3. Невская твердыня
– Ведунья Фекла... – ответила Демьяновна. – Прости нас, государь батюшка!
Царь оглянулся на царицу Марию:
– Чего ради старая ведьма пожаловала к тебе, rocyдарыня?
Царица тоже упала в ноги царю:
– Я виновата!.. Одна я!.. Винюсь... Пощади их!
Она рассказала все начистоту царю, ничего не скрывая.
– Стало быть, ты не лжешь?.. Любишь?! – спросил он с веселой улыбкой царицу. – Приворожить меня задумала?! Добро!
– Истинно так, – ответила Мария. – Забываешь ты меня...
– Встань! А вы идите... Старую ведьму надо бы сжечь живьем, как то делают в иных царствах, да вот она, видать, царице нужна... Нельзя! Пускай, коли так, поживет... демонов порадует... В другой раз смотри, ведьма, не попадайся... Голову отсеку. Вон! – топнул царь ногой.
Оставшись наедине с царицей, Иван Васильевич крепко прижал ее к себе и, звучно поцеловав ее в губы, сказал:
– Зачем ждать ночи?! Милая моя... Маленькая!.. Глупая!
Мария, освободившись из его объятий, быстро подошла к божнице и задернула занавеску перед ней...
Шевригин Истома был встречен царем хмуро, неприветливо. Ему доложили о возвращении посла из Рима утром, когда он, вернувшись из покоев царицы, злой, пожелтевший, сел за стол в своей рабочей комнате. Был назначен на этот час прием иконописцев, прибывших из Новгорода. Им были заказаны иконы в честь царицы Марии для убранства вновь выстроенного храма святой Марии Магдалины.
– Гоните прочь богомазов! Не надо мне их! – сердито крикнул царь Иван. Дворцовые слуги заметили, что из опочивальни государыни Иван Васильевич вышел какой-то расстроенный, убитый. Попавшихся ему навстречу слуг он прибил посохом, гоня их прочь из дворца.
– Ты, Истома, поведай мне все, без прикрас, совестливо, коли тебе жизнь дорога, как там приняли тебя заморские еретики? Не ври! – мрачно проговорил царь, глядя на Истому исподлобья.
Шевригин, не торопясь, рассказал о благополучном совершении путешествия из Пернова до Праги – столицы цесаря Рудольфа, о приветливом приеме посла и его спутников в Дании и Германии.
Царь Иван то и дело вскакивал с кресла, передергивался, перебивал Шевригина не относящимися к его докладу вопросами.
Вдруг он спросил:
– У тебя робята есть?!
– Есть, батюшка государь!.. – скрывая свое удивление, отвечал Шевригин. – Есть, семеро.
– Много ли тебе лет?
– Четыре десятка, батюшка...
– А жене?
– Три десятка с пятью годами...
Царь погрузился в хмурое раздумье.
– ...цесарь Рудольф соболя те принял, – продолжал свою речь Шевригин, – и приказал благодарить твое величество, государь наш батюшка.
– Молчи, несчастный! – вдруг встрепенувшись, крикнул Иван Васильевич. – Приказывать тебе волен твой государь! А немчину еретику просить тебя надобно, челом бить, слышишь ли?! – застучал он с силой посохом об пол. – Мой холоп ты, а не его! Как же он смеет тебе приказывать?
– Цесарь Рудольф просил... Винюсь, государь, немчин просил... – побелевшими губами залепетал Шевригин, – просил передать благодарность...
– То-то! В каких мерах он со Степкой? Узнал ли?!
– Страшится он польского короля... Не смел даже на разговор о нем... Слабый... недужный... нерешительный...
– Готов ли он скопом идти на бусурман-турок? Ну!
– Готов, токмо князья его не слушают... Несогласие там.
– Добился ли ты, чтоб послов своих он к нам пригнал?!
– Нет... Не добился, великий государь!.. Боится он... перехватит их будто бы король Стефан.
– Собака! Дурень! Какой же он цесарь?!
Царь зло плюнул.
Шевригин переждал, когда царь успокоится; стал робко снова продолжать:
– От цесаря поехали мы в Рим, к папе.
Он рассказал царю о дружественном и почетном приеме, оказанном ему, государеву послу, при папском дворе.
– Говорил ли папа о недружбе короля Стефана к Москве?
– Папа говорил, чтоб передал я твоему величеству, государь, его добрую волю и любовь к тебе, отец наш. И еще велел передать папа, что посылает он посла в Старицу с поклоном тебе и за советом, чтоб дружелюбие на земле водворить... Папа Григорий хотел того посла отправить с нами, да мы с ним разъехались... Он поехал через Польшу и Литву. Мы – через Данию, тем же путем, что и прежде, а звания он поповского, иезуит; имя его – Антоний Поссевин. Скоро будет он с поклоном тебе, великому государю, в Москве.
Лицо царя Ивана стало спокойнее. Морщины над переносицей разгладились.
– Много ль с ним бредет к нам латынских людей?
– А когда мы разъехались, было у него папиных слуг двенадцать душ, да среди них – два толмача.
Царь приказал Богдану Бельскому послать за Борисом Годуновым и за первым дьяком Посольского приказа Писемским.
Шевригин принялся рассказывать, что пришлось ему слышать дорогою. В Праге говорили, будто Стефан Баторий исподтишка деятельно готовится к новому большому походу на Русь. Известно, что всюду ездят его люди и занимают деньги на войну. А в феврале будто бы он даже на сейме говорил, чтобы ничего не жалеть, дабы твердою ногою стать в Ливонии, да и на псковском рубеже. А в будущем времени паны замышляют поход и на Москву.
– Что же думает о том Рудольф-цесарь? – спокойно спросил внимательно слушавший Шевригина Иван Васильевич.
– Рудольф-цесарь страшится каждого шага польского короля. Пуглив он. Нерешителен, хотя ему и не по душе промысел панов о завоевании Ливонии и о походах на Москву. Ливония дорога и самому цесарю; там обитают его соплеменники, немцы. Не на пользу ему и усиление польской державы. А к московскому государю, говорят цесаревы люди, Рудольф всем сердцем расположен, тогда как многие из его князей сторону Стефана держат с великим пристрастием.
В сопровождении Бельского пришли Борис Годунов и Писемский.
– Леонтий, – указав на Шевригина, обратился к ним царь Иван, – как я вижу, добрый у меня слуга, расторопный. Добился-таки он, чтобы папа к нам посла своего отправил... Одарить его следует. Да и подумать нам прилично, как встретить того папского посла.
После ухода Шевригина царь Иван заговорил о начавшемся походе польского короля к Пскову. Защита этой крепости, сказал он, должна решить судьбу и России и Польши в этой войне. Если крепость устоит, то и дела короля Стефана ухудшатся. Если она падет, дух польских панов поднимется, власть над ними короля еще более усилится, о мире тогда и думать нечего. Польско-литовские войска, воодушевленные победою, двинутся дальше в глубь России. Стало быть, надо все силы употребить к тому, чтобы Псков устоял.
– Пускай под Псковом узнают силу нашу, – сказал Иван Васильевич. – Пошлем туда еще приказ воеводе Шуйскому, чтоб стоял крепко по крестоцелованию. Пускай умрут, но не сдаются! Многие осады были могилою осаждающих. Наряди дюжих робят с тою моей грамотою, Борис. Папскому послу окажем прием, словно бы самому папе. Он нам годится в дни осады Пскова. Пушки наши громить станут врагов, а папский посол в королевском стане излиет сладкозвучные речи о непролитии христианской крови и о воссоединении Москвы под рукою папской латынской церкви. То и другое смутит короля Стефана. Знаю я умыслы святейшего отца, знаю и то, как ответствовать после на иезуитские речи. Завтра в Боярской думе обсудим наши дела, чтоб было все решено у нас в дружбе и согласии...
Свидание Игнатия Хвостова с Анной было столь радостное, что молодые люди не заметили нарушения ими домостроевских уставов.
Анна, позабыв все на свете, сама поднялась по лесенке в горницу, где жил Игнатий, сама бросилась к нему в объятия, сама, первая, начала покрывать его поцелуями, так что он испуганным шепотом начал умолять ее не терять головы, помнить, что внизу могут ее хватиться, что тогда запрут ее в терему, и вообще... Но она ничего не слышала, ничего не помнила, так что все слова благоразумия разлетелись в прах и у самого Игнатия Хвостова.
Анну осенили такие же светлые и вместе с тем горячие чувства, как бывало это с ней в часы пламенной, полной самозабвения молитвы во мраке, напоенном священными благовониями и овеянном таинственной тишиной, когда она ощущала в мироздании только себя и Бога...
Ничего греховного, страшного теперь не было для нее.
Игнатий, разгоряченный, одурманенный очарованием греха, шептал в полузабвении: «Касатка, ангел! Ты – моя!» Теплая нежная шея, грудь, прильнувшая к его груди, гибкие руки и вся близость ее погружали его в чудесный, сказочный сон.
Когда Феоктиста Ивановна, испуганная отсутствием дочери, тайком от мужа спешно поднялась в горницу Игнатия, она в ужасе всплеснула руками.
Игнатий и Анна вскочили, бросились к ее ногам, прося у нее прощения.
Феоктиста Ивановна горько заплакала.
– Несчастная!.. Грех-то какой!.. – всхлипнула она.
Успокоившись, она, не глядя на Игнатия, схватила дочь за руку и повела ее вниз.
На другой день Игнатий уже не видел Анну. В доме царила весь день мрачная тишина. Никита Васильевич Годунов уехал с самого утра.
Игнатий чувствовал себя горьким, одиноким. Ему ясно было, что не придется уж ему, как бывало, видеться с Анной. Открылась тайна, которую с таким трудом и опасениями они прятали от людей. Конец всему! Аминь!