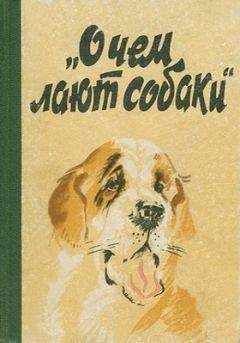Яцек Денель - Сатурн. Мрачные картины из жизни мужчин рода Гойя
Вернулся он страшно изнеможденным, его фактически внесли в дом, он повис на плечах извозчика и слуги, выглядел посиневшим, позеленевшим, будто вылепленным из грязного воска, чудовищно исхудавшим, с обвязанной белой косынкой головой; но самым странным было почти гробовое молчание, сопровождавшее его возвращение. Никаких радостных возгласов, никаких приветствий, никаких поручений; и если матери надо было что-то сказать, говорила она шепотом, словно боясь взорвать возвышенную тишину. Каждый шелест платья, каждый стук каблука казался не в меру громким.
Лишь вечером, уложив меня в постель, прислуга сказала мне: «Бедняжечка, теперь у тебя совершенно глухой батюшка»[14].
Потом еще несколько месяцев он отлеживался в постели – лицо его округлилось, начал он рисовать в тетради, стал занудным, как любой выздоравливающий мужчина. И все время о чем-то просил нас или злился, что не может писать; а поскольку оглох, то поднимал невообразимый шум; его громовой голос слышно было во всем доме, от лавочки дона Фелисиано на первом этаже, где от него дрожали и тихонько позванивали стеклянные флакончики с благовониями, до самого чердака, где начинали трепетать сохнущие простыни. «Хавье-е-е-е-е-р, – верещал он, – Хавьер, иди к па-а-апе!», а я убегал куда глаза глядят, как раньше убегал от назойливых объятий матери.
Увечье – это отчуждение. Человек, потерявший руку, – совсем не тот, что был когда-то, только без руки. Это человек, у которого вместо руки имеется ее отсутствие, совершенно новый орган, и на него не следует смотреть и о нем напоминать. Чтобы не причинить боли. И если в теле на месте руки выросло отсутствие руки, то и в душе на месте чего-то там выросло ее отсутствие – орган болезненный, гноящийся, чувствительный.
А те, что лишаются какого-то органа чувств, теряют несравненно больше – весь мир, доступный им с помощью этого органа, и не только! Не только саму мелодию сарсуэла[15] и не только то, как Тирана[16] проговаривала со сцены слова, с тем своим щекочущим ухо бормотанием, воркованием, но также разносящийся по залу шелестящий шепот, добегающие из последних рядов возгласы, хлопки и рукоплескания, эту всеобъемлющую накатывающуюся волну голосов и шумов, какими собравшиеся, как один человек, благодарили ее за звуки, что посылала им со сцены; и казалось, что все эти мелодии, переборы, топот и гудение изливаются из двух противолежащих морей – из сотен гортаней зрителей и ее одной, несравненной гортани.
А сайнетес[17], от которых он когда-то покатывался со смеху, все эти сценки с плутоватыми сборщицами апельсинов и неустрашимыми махо, с умничающими врачевателями и ловкими сорванцами, которые всегда все сделают по-своему, – он учил наизусть эти песенки, а потом пел их за работой, даже спустя годы, когда сам себя уже не слышал и чудовищно фальшивил; и все это он потерял. Не было больше и переодевания, чтоб выйти в город, напяливания отделанной позументом куртки и шитых золотом штанов, которыми он так гордился (хоть уже давно распрощался с талией тореро, о чем мать не упускала случая пробурчать себе под нос)… А ноты, какие он посылал своему дорогому Сапатеру, ноты сайнетес и сегидилий[18], сколько же суетни было с ними, беготни от прилавка к прилавку, чтоб только раздобыть самые новые, модные мелодии!
Купленное он упаковывал и высылал с конной почтой в Сарагосу, а возвращаясь домой, повторял: «Все. Конец с музыкой, пусть теперь Мартин получает удовольствие, с сегодняшнего дня перестаю ходить туда, где можно услышать песни… я же себе сказал: ты должен, дрить твою, придерживаться каких-то принципов, сохранить, дрить твою, приличествующее мужику достоинство!» – и так бормотал он всю дорогу, до самого дома, а вечером все равно выходил, расфуфыренный, в одной из своих расшитых курток махо, и до слез смеялся с другими, подобными ему. Но с тех пор как лишился слуха, ни разу не надел куртки махо, даже ради шутки, словно она была одеждой покойника.
Говорит ФрансискоЕсть вещи, о которых не расскажешь. Их можно только написать. А если по-честному – и написав, не расскажешь.
Говорит ХавьерВот и получается, что оправился от болезни и встал за мольберт совершенно чужой человек. В первую очередь чужой для нас – ведь до его ушей не доходили наши слова; он сидел в своей мастерской, как рыба в аквариуме, темно-буром, с диковинными водорослями: рулонами полотна, скелетами подрамников, соскобленной краской, и работал без передышки, зачастую ночами, отчего сжигал еще больше свечей, а одежда его и весь пол мастерской были испещрены капельками воска, прочерчены его серебристыми нитями; он брал все заказы подряд, лишь бы доказать, что все еще умеет писать, начал посещать собрания Академии, дабы пресечь распространяемые желчными пачкунами сплетни, будто бы «Гойя кончился», и сидел на этих собраниях, ровно ничего не понимая, но, как мне представляется, с умным видом, словно слышал все до единого сказанные слова и глубоко размышлял над их сутью; писал ужасные картинки на жести – пожар, выброшенных на голую скалу жертв кораблекрушения, разбойников, убивающих путешественников, тюрьму, толпящихся в коридорах больницы умалишенных; по сей день живы в памяти отдельные сцены: перекошенные от страха лица, вывернутые ладони, отчаянные жесты; я подкрадывался так близко, как только было возможно, и наблюдал из какого-нибудь укрытия, из-за полотна или стула, как он, посапывая и бормоча, отходит от холста и вновь к нему подбегает, накладывает на него жирную, масляную черноту кандалов, окатывающую труп белую кипень и коричнево-красные, сухие пятна – кровь, впитывающуюся в песок под колесами дилижанса.
Если он догадывался, что я стою рядом, – заметив меня краем глаза, почувствовав мое дыхание на опущенной левой руке или попросту ощущая чье-то присутствие, сосредоточенье чьего-то внимания, как оно порой случается каждому из нас, – резко оборачивался и выгонял меня за дверь; временами это было похоже на игру: он ухал, свирепо лаял и рычал или щекотал меня под мышками; однако большей частью был действительно зол, особенно если писал сцену из дома умалишенных – тут же набрасывал на нее тряпку и хватал что ни попадя – багет или ветошку, – чтоб прогнать меня из мастерской.
Потом вместе с письмом он послал эту картину Сапатеру (не имею представления, что с ней сделали его наследники), а себе, спустя несколько лет, написал другую, точно такую же. Что бы там ни было, найти с ним общий язык у меня не получалось. Он еще не умел читать по губам, а я почти не умел писать; он выходил из себя, когда я медленно, с трудом выводил очередную букву, а он старался угадать все слово; если ему удавалось, он ожидал следующего и снова пытался угадать, но спустя какое-то время забывал, что было в начале, и еще больше злился. Тогда я понял, в чем прелесть нашего большого дома.
Большие дома существуют для того, чтобы люди могли избегать друг друга. А если кто-то глух, от него еще проще спрятаться; можно даже пробежать за его спиной из комнаты в комнату, только осторожно, чтобы он не почувствовал дрожания пола у себя под ногами; но когда тебе десять лет, можно бегать легко-легко. Писать я научился быстро и разборчиво, чтобы наши разговоры были как можно короче, а вместе с письмом незаметно пришла охота к чтению – отец особо не восторгался книжками, мать читала только молитвенник, но в школе у монахов, помимо безумно скучных сборников молитв, было несколько интересных книжек, оставшихся от лучших времен.
Когда я подрос и стал посмелее, мне случалось выспрашивать у некоторых знакомых отца, какие книги они ценят более всего, – и если я не находил их в библиотеке пиаристов[19], то в следующий приход гостей просил мне их одолжить; конечно же мне не полагалось заговаривать с отцовскими посетителями в гостиной, но я ведь мог оказаться в прихожей (сильно волнуясь, со вспотевшими руками), когда они входили или выходили из дома; частенько прислуга или родители награждали меня затрещиной, но случалось, что позднее я получал вожделенную книгу и тут же летел с нею в комнату, дабы приступить к чтению. Приехавший на какое-то время по своим делам из Кадиса сеньор Мартинес частенько наведывался к нам в дом и убеждал отца послать меня учиться за границу, но отец отрезал: «Хавьер – художник. Прирожденный художник. Это у него от меня. Всякая наука, кроме науки живописи, для него пустая трата времени. Не говоря уже о деньгах. Впрочем, книги, дрить твою, – то же самое. Трата. Столько света пропадает».
Но более всего отец, потеряв слух, стал чужаком самому себе, прежнему себе; он изменил привычки, тембр голоса, распорядок работы, нервничал из-за пустяков. Всегда был вспыльчив, теперь же напоминал пойманного в капкан волка, который искусает любого, кто приблизится, хоть с каждым подскоком и каждым щелканьем зубов дуги еще глубже будут врезаться в мясо и кость лапы.